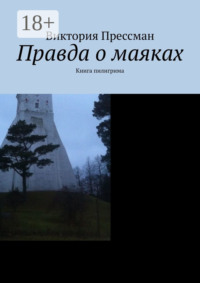Buch lesen: "Правда о маяках. Книга пилигрима"
© Виктория Прессман, 2020
ISBN 978-5-4498-0106-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Психопомп (в переводе с греческого ψυχοπομπός – проводник душ) – это существо, миссия которого доставлять души на «тот свет». Подразделяются на собственно психопомпов, задача которых – доставлять или провожать покойных к их новому месту жительства, и привратников, которые стоят на месте и пропускают прибывающих.
Википедия
Звезда, не знающая заката
Путешествие из Таллина в Москву и обратно
Жизнь человека, дитя мое, есть скорбь,
ибо она проходит в изгнании.
Иосиф Исихаст
…ибо не имеем здесь постоянного града,
но ищем будущего.
Послание к Евреям 13:14
Глубокой ночью попутка везла меня из Таллина в Москву. Машина ехала сквозь туман, и вдруг из темноты высветилось название городка Vastse Kuuste, ничем не примечательного места, кроме, пожалуй, того позабытого факта, что здесь много лет назад родился барон Отто фон Унгерн Штернберг. Барон принадлежал к древнему воинственному роду, ведущему свое начало от Атиллы. Среди известных представителей рода были пираты, храбрые воины, рыцари тамплиеры, – всех их объединяла склонность к увлечению мистикой и оккультизмом. Поговаривают, что некоторым удалось достичь бессмертия.
В силу плохой видимости маленький Рено подпрыгивал на всех ухабах, как почтовая карета вековой давности, заснуть не представлялось возможным. На темной трассе машины разбивались за нашей спиной, а мы как ни в чем ни бывало продолжали свой путь сквозь ночь – омофор неба стелился невидимой росой затянувшейся ноябрьской оттепели. Мой любимый месяц пустынников и умирания закрывал бутон, упокаивал мертвых. Засыпала земля, запоздалые птицы летели как бы нехотя на юг, а те, что остались, пели по-весеннему весело и игриво. В закрытии и засыпании заключена потенциальная сила высвобождения. Когда-нибудь все уравновесится, придет в баланс – вертикаль и горизонталь пересекутся в точке сердца, вражды больше не будет. Прошлое, настоящее и будущее соберутся в одном моменте, вернутся в точку покоя направления света, нагонит весна осень, а лето зиму, и исполнятся все мои заветные желания: у меня будет свой дом в цветущих, несущихся под небом полях.
В ганзейском Таллине, в Ревеле когда-то началась моя жизнь, и у нас когда-то был дом. Всегда надо искать сердце града, его сакральный центр, тогда более внешние, плотные измерения сами собой дотягиваются, достраиваются до полной картины, и город предстает такой родной, такой понятный и любимый – как на ладони. Сердцевина града Таанилинн – Тоомпеа. Здесь по преданию похоронен Калев, и его жена Линда носила камни, чтобы соорудить холм над могилой любимого мужа. Так появился Вышгород – место высокое. Домский собор Девы Марии и Парламент Эстонии соответственно являются духовным и политическим центрами сердца датского града. На длинном Германе развевается флаг, триколор – земля, море, воздух. Львы и дубы красуются на обложках эстонских паспортов. Когда-то Домберг был столицей эстляндского герцогства, местом обитания тогдашней военной и духовной элиты, и поэтому на ночь ворота, ведущие на Вышгород, закрывались. В нижней же части города неуемно шумел ремесленный, купеческий, ганзейский люд. Корабли заходили в порт, в Таллине наблюдалось смешение языков, толчея и гомон царили в нижнем городе, торгаши и ремесленники со всех концов земли ступали на землю датского града и привносили в общий орнамент невидимой карты места что-то свое, неповторимое, уникальное.
Тихий, таинственный Таллин, в котором я родилась, его уже почти больше не осталось. Евросоюз и эпоха коммерции и потребительства вытеснили с карты мира сказочный уютный чистый и тихий город, который был намного более эстонским в составе Советского Союза, чем в составе ЕС. Отголоски той камерной самобытной Эстонии можно почувствовать отчасти в Хаапсалу или в Раквере, в эстонской провинции. Когда я была маленькая, папа любил гулять со мной по тихим таинственным улицам Вышгорода, рассказывать легенды средневекового города – вот дом пирата, где когда-то жил потомок злодея с острова Даго, вот мой любимый дворик с ржавыми пушками, где, по словам отца, «жила снежная королева».
Что люди ищут в средневековом портовом Ревеле? Что радует глаз заезжих туристов? Графика крыш на фоне молочного заката, густого от запахов корицы, кофе и моря, караваны заморских торговцев, большие корабли, яркие краски северного неба. Быть может, кто-то из них видит дубы-колдуны, камни доледникового периода, колодцы ведьм, подушки Калеви Поега… Или публичные дома, казино, кабаки, которых просто не счесть. Что видят здесь эти зеваки туристы, вечные дети закатившейся старушки Европы – падение нравов или традиционность, иногда граничащую с ханжеством, равнодушием, провинциальностью? Какие корни открываются им в Ревеле – датские, русские, немецкие, шведские, угро-финские? Безусловно, есть в Таллине свой шарм, своя изюминка – нежный густой воздух, сотканный из песка, пряностей, моря, сосен… Все как будто парит в воздухе, и дует свежий ветер и надувает паруса, ловит птиц и чьи-то мысли.
Парит мой ум, а машина продолжает ехать из Таллина в Москву…
Я всегда приезжаю или временно возвращаюсь в Москву, когда в мегаполисе происходят эпохальные события: смена политического режима, передел собственности, ураган, я являюсь свидетелем появления новых колец и диаметров – третьего, МЦК, МЦД…
Я вижу, как сносят памятники архитектуры, улицы закатывают светлым однотипным бездушным плитняком, рубят деревья – делают новые развязки, расширяют проспекты. Появляются доселе неведомые станции и ветки метро… Старые все так же вызывают восторг у приезжих и туристов из-за рубежа, наконец-то для них стали появляться указатели на латинице. Благоустраиваются парки, в городе замаячили одинокие велосипедисты, а на набережных и в парках их просто не счесть… В общем-то, иногда начинает казаться, что Москва – это город для людей, но это не так. Со временем видишь и чувствуешь агрессию, равнодушие, политкорректность, жестокость и пробивную силу москвичей. Говорят, Москва слезам не верит…
В этот раз я приехала в столицу, когда нагрянула градостроительная реформа под названием «снос пятиэтажек», проект реновации… Их уже начали сносить… Моя пятиэтажка пока не в очереди на снос, но жильцы торопят события, некоторые ютятся впятером в однокомнатных квартирах, мечтают о новом доме с улучшенной планировкой и парковочным местом, об увеличении метража, об отсутствии сырости и газовой колонки, о новых трубах и батареях… о новом виде из окна… Вместо хрущевок вырастают хаотично раскиданные, не создающие общего ансамбля новостройки разных цветов и этажности. А в городе начинают появляться полые призраки с черными глазами – выселенные дома… Запах застарелых нечистот, низкого качества жизни, запах нищеты, агрессии, неумытости, безнадеги. Были наверняка такие жильцы, которые не хотели покидать свою старую нору, свой подъезд, свой двор – они бились насмерть, стояли до конца, пока сотрудники правоохранительных органов не применили силу… Дома пусты, глазницы темны, рядом котлованы, из которых скоро как грибы под дождем вырастут новые дома… Глазницы темны, запах остался. Запах – это часть души. В этих домах-призраках остались части человеческих душ. А потом их снесут. Совсем. И постепенно исчезнут запахи. Вырастет новый большой дом с нейтральными запахами строительных материалов – краски, глины, линолеума, дерева. У кого-то начнется новая жизнь, а у кого-то она так и останется в прошлом – в воспоминаниях, в мечтах, в надеждах, в упованиях. А вообще, каждый новый переезд – это новое освобождение. Или новое рождение. Избавление от лишнего, ненужного, тяжелого, второстепенного, скидывание балласта.
Мне было двенадцать лет, когда мы покинули с папой, бабушкой и мачехой любимый Таллин. Для меня это стало настоящей трагедией. Я обожала родную Балтику, не представляла себе, как можно жить без моря, без сосен, без свежего ветра, я так и не полюбила Москву до конца, хотя поняла и изведала ее. Я переросла из человека провинциального Таллина в человека имперского третьего Рима. Москва, как тут ни крути – мировая культурная столица, создала фундамент моего образования и расширила диапазон восприятия. Еще, пожалуй, диапазоны моего восприятия донельзя расширило ЛСД, но об этом, право же, не стоит.
С переездом в Москву и отрывом от родной земли для меня началась эпоха изгнания. Вне всяких сомнений, она началась еще с изгнания из Рая. Да и чем мы лучше праотца Авраама, который был скиталец и пришелец на этой земле, и где наш дом – Ойкумена, земля обетованная?
Как же долго умирает эпоха, рушатся дома, порастают быльем тропы, все покрывается новым временным слоем. Старое становится все более уродливым, новое – все более чужим. Мир движется к неминуемому концу, начиная медленно возвращаться к началу.
Барон
На нашем родовом гербе по материнской линии изображены дуб (любимое дерево друидов) и три драконьих зуба. По преданию самые первые представители рода Бакуниных были из Трансильвании, и там один из моих храбрых прапрапрадедов убил дракона, мучавшего жителей города на протяжении многих десятилетий. Поэтому на нашем гербе драконьи зубы… На родовом гербе рода Унгерн Штернбергов изображены лилии, шестиконечные звезды, девиз рода «Звезда их не знает заката». А мой личный девиз – «Служи и властвуй».
«И что вам до этого Штернберга», – спросите вы?
Попробую вам рассказать, все довольно просто: я нашла родственную душу в бушующем океане человеческих судеб… Барона Отто Фон Унгерн Штернберга… Моя уязвимость и гиперчувствительность в отношениях с людьми делают жизнь довольно сложной. Так хочется, чтоб все пело в унисон. Всегда. И поэтому проще прикинуться дурачком, быть отшельником, это дает шанс сохранять внутреннюю свободу, быть собой, взаимодействовать с пространством и невидимыми потоками энергий и временных рек, радоваться первозданной красоте природы, черпать силу, чтобы восхищаться, удивляться и благодарить. И как барона Унгерн Штернберга с острова Даго меня намного больше «пленяет роль затаенного существа…», когда «не надо кривляться, сочинять себя, позировать…», и можно любить свободу и дорожить тайной.
Когда-то самодержец пустыни острова Даго, пират и бунтарь, блестящий аристократ был сослан в Сибирь за то, что манипулировал с маяками острова, тем самым сбивая корабли с курса, в результате чего они разбивались, а барон пополнял казну… Вполне возможно, что это всего лишь легенда, а в Сибирь Отто сослали за прямой, строптивый нрав и свободу от условностей общества, к которому он принадлежал, но сбежал, выбрав добровольное изгнание ради сохранения внутренней свободы и мобилизации сокрытых сил души.
Вот что нам известно о бароне из его биографии. «Он родился в 1744 году в Лифляндии, после окончания Лейпцигского университета оказался в Варшаве, при дворе польского короля Станислава Понятовского дослужился до камергера, затем переехал в Петербург, а в 1781 году купил у своего университетского товарища, графа Карла Магнуса Штенбока, имение Гогенхельм на острове Даго и прожил здесь до 1802 года, когда был судим и сослан в Тобольск. Там, спустя десять лет, он и умер». Или почти что умер.
Есть и другая версия о перестановке маяков. На острове Даго барон «начал выказывать необычайную страсть к науке. Чтобы ничто не отвлекало его от занятий, он пристроил к замку высокую башню, которую называл «библиотекой». На самой ее вершине находился его кабинет – «застекленный со всех сторон фонарь-бельведер». Только по ночам и только в этом уединенном месте барон «обретал покой, располагающий к размышлениям». В темноте стеклянный бельведер светился так ярко, что издали казался маяком и «вводил в заблуждение капитанов иностранных кораблей, нетвердо помнящих очертания грозных берегов Финского залива». Эта «зловещая башня, возведенная на скале посреди страшного моря, казалась неопытным судоводителям путеводной звездой», и «несчастные встречали смерть там, где надеялись найти защиту от бури. Спасшихся моряков убивали, уцелевший груз становился добычей барона. Это продолжалось до тех пор, пока «негодяя» не выдал гувернер, случайно ставший свидетелем одного из таких убийств. Барона-разбойника судили в Ревеле и сослали на вечное поселение в Сибирь.» Так что, пока барон читал или размышлял в своем стеклянном фонаре-бельведере, корабли разбивались, но это навряд ли выводило барона из состояния внутреннего равновесия, и не мешало ему продолжать думать и погружаться в тайны и глубины мироздания.
На самом деле дурная слава закрепилась за островом Хииумаа, Даго, за много веков до того, как там поселился барон. Остров этот, открытый всем ветрам, с изрезанной береговой линией, всегда был пристанищем пиратов Балтийского моря. Он стоял на главных морских путях Ганзы, и капитаны кораблей, курсировавших через архипелаг, обратились к государю с просьбой о постройке маяка, что и было предпринято еще в XVI веке. Так появился Дагерорт.
Маяк
Самый старый маяк в Северной Европе немного странной формы трапеции-пирамиды, и он до сих пор исправно работает, абсолютно самодостаточен и перманентно служит. То, как он размеренно и неизбежно светит новой французской линзой в темноту, напоминает акт любви и вводит в состояние оцепенения и транса…
В XVIII веке барон взял на себя все расходы на содержание Дагерорта, что было делом дорогостоящим, особенно для такого большого тридцатипятиметрового маяка. Хотя бы представьте на секунду, сколько дров нужно было покупать для поддержания постоянного огня – источника света.
Кроме того, Отто восстановил несколько церквей на острове, реставрировал старую мыйзу, усадьбу – она и сейчас в прекрасном состоянии.
Мне импонирует это изысканное сочетание баронства и изгнанничества, умение сохранять достоинство, спокойствие, стать и выдержку, опрятность, собранность во всех ситуациях и обстоятельствах. Это дар удерживать ясность ума, несмотря ни на что, и позволять себе открытость, не будучи при этом слишком уязвимым. Обладать высоким вкусом и безошибочным чутьем на людей, города и вещи… Барон фон Унгерн безусловно гений места, его судьба неразрывно связана с историей острова Даго, теперь Хииумаа и с его маяком.
Думаю, что Отто фон Унгерн, в силу человеческого опыта и образования, мог позволить себе маленькие шалости, этакую свободу, фривольность в обращении с людьми разных классов, что располагало к нему жителей острова, которые и боялись, и любили его одновременно. На бароне был еле заметный налет простоты, граничащей с обаянием – природным, животным, магнетическим.
Странно, этот немного инфернальный персонаж, герой, окутанный мрачными легендами, привлек меня сразу своей неприкаянностью, бунтарством и внутренней свободой, а еще пожалуй что честностью. Он, безусловно, был не такой как все. И мне почему-то кажется, что мы с ним похожи…
Вот что говорит о бароне Адольф де Кюстин в своих письмах из России: «Не веря ни во что и менее всего – в справедливость, барон полагал нравственный и общественный хаос единственным состоянием, достойным земного бытия человека, в гражданских же и политических добродетелях видел вредные химеры, противоречащие природе, но бессильные ее укротить. Верша судьбами себе подобных, он намеревался, по его собственным словам, прийти на помощь Провидению, распоряжающемуся жизнью и смертью людей».
И да, мне надо будет поехать к нему, к маяку, в пустыню острова, чтобы продолжить наш начатый внутренний разговор…
Дом. Детство
Мое детство прошло в деревянном доме на берегу Балтийского моря. В том доме были печка, камин, любимая бабушка Буся, большой сад, и было видно звезды, и у нас была собака боксер. А мама умерла, когда я была маленькая… Она хотела, чтобы я занималась музыкой, поэтому на веранде стоял рояль Дидерихс с канделябрами.
Дом. Наша простая эстонская советская дача, которую мы с папой строили своими руками, находилась на дальней оконечности полуострова Какумяэ, в дикой его части, почти на самом берегу моря. Пляжи в той части полуострова каменистые, позади к нашей даче подступал вплотную темный лес, и в гости иногда заходили лоси…
Дни наши на даче проходили беззаботно. Мы путешествовали на полуостров Раннамыйза, который был ровно напротив нашего, на другой стороне залива, так что по отмели можно было дойти до него по воде; втихаря от бабушек мы гоняли на великах до Таллина; вставали в 5 утра, чтобы встретить восход солнца на заброшенном пляже. Мы будили друг друга стуком в форточку: Соня вылезала прямо через форточку, Оля выходила тихонько через веранду, а я сбегала через окошко предбанника… Никто и не знал о нашем исчезновении, мы возвращались до того, как бабушки просыпались. Я занималась восточными единоборствами, играла об стену в большой теннис, помогала бабушке по саду, ходила за грибами и ягодами. Все время в трусах, босиком, на дребезжащем велосипеде моей старшей сестры – настоящий индеец…
Днем мы угоняли лодку Аниного папы, рыбака, и на лодке выплывали на середину залива, дрейфовали, купались, загорали. Мы залезали на самые высокие сосны и так высоко, что нас качало, и птицы летали вокруг. Мы выживали как Робинзоны Крузо: строили шалаши, делали бумагу из водорослей, питались кореньями и травами, знали виды птиц и даже названия мха на латыни, не боялись змей. Все тропки и просеки Какумяэ были нанесены на секретную карту. Ночью, с середины августа, начинали падать звезды. Иногда мы насчитывали до ста упавших звезд! Еще в детстве я поняла, что хочу быть путешественником. Несмотря на явный музыкальный талант, меня больше интересовало самопознание, медитации, спорт и путешествия. Дедушкин атлас офицера был испещрен карандашными пометками… Я составляла предполагаемые маршруты, мне было все равно, что они проходят по исторической карте XVIII века через несуществующие страны… Карандашиком были обведены линии рек, они соединяли горы, города… Атлас офицера был моей настольной книгой вместе с Записками о Шерлоке Холмсе.
Сейчас полуостров Какумяэ вошел в состав города, но мало что изменилось за последние двадцать лет, даже, наверное, поросло быльем. На фоне шикарных коттеджей – заросли и заболоченные старые пограничные советские заставы. Какой-то налет пыли и паутины на всем, даже на лесе. В самой оконечности полуострова есть такое место, где пересекаются координаты и стороны света, где находится один из метафизических центров моей необъятной вселенной. А теперь там могила визионера, который умер в 2000-ом году. Об этом говорит надпись на дощечке, прибитой к новой деревянной лавочке.
Когда-то я встречала рассвет, сидя на оконечности полуострова. Напротив полуострова маленький песчаный островок, где всегда много птиц, птичий базар. Чайки и лебеди, утки и черные кормораны – гомон, полеты, переполох. В обрывах живут ласточки – стремительные птицы, предвозвестницы дождей… Силуэт ласточки и василек – национальные эмблемы Эстонии. Измерение птиц и моря вселяет надежду на неизменность основ бытия.
Дачи нашей, мы строили ее с папой своими руками, больше нет, на ее месте вырос огромный многоэтажный особняк, а вот елочки, которые я выкапывала в лесу, привозила на тачке и сажала вдоль забора – они растут, и они теперь высокие, и им столько же лет, сколько мне сейчас. И мне кажется, что, несмотря на то, что дом наш снесли, это место хранит воспоминание о нем и о нас, и о наших счастливых днях. Новые владельцы нашего участка сменяют один другого, а мне все снится один и тот же сон, что я вхожу в дверь нашей дачи, и там все так, как было в детстве, иногда во сне со мной папа и бабушка. Наверняка и нынешние владельцы, которые все же снесли нашу дачу, скоро сменятся, и они будут меняться до тех пор, пока мне не перестанет сниться один и тот же сон, и до тех пор, пока души моих предков не обретут вожделенный покой.
Да, от бабушки в наследство мне досталась однокомнатная квартира в Москве, куда я перевезла остатки дедушкиной мебели, способные уместиться в однушку в хрущевке, архивы, переписку предков. Квартиру эту я освятила, после смерти отца сделала там ремонт, теперь вот поменяла окна (моя знакомая художница вынесла вердикт «окна – это душа дома»), сменилась душа, освежилась, надо бы поменять батареи и обновить пол. А вообще квартира теплая, уютная, светлая. В ней хочется молиться. Хорошо бы купить пианино и поставить туда, где оно стояло. Пианино, когда я стала сдавать квартиру, пришлось отдать музыкальной школе. Да и не жалко, это был фанерный пустой инструмент Заря…
После переезда в Москву, рано сделав ошеломительную карьеру, перепробовав все виды кайфа и запретных плодов, из-за своих экспериментов и падений в адову бездну я потеряла почти всех друзей. Хотя, может, это были и не друзья вовсе.
Мы застали Москву 90-х, когда свобода, сдерживаемая до этого железным занавесом, вдруг хлынула мощным, сметающим старые основы потоком. Информация не регламентировалась ничем и никем: свобода слова, плюрализм, гласность, демократия. Стали повсеместно открываться видеоклубы и прокаты, на полках книжных появились доселе невиданные книги, издание которых не контролировалось цензурой. Полки холодильника были завалены огромными окорочками Буша, мы бухали странного яркого цвета ликеры и Амаретто, готовили на пальмовом масле, боялись сальмонеллы. Магазины были забиты низкокачественной одеждой и техникой. На стене красовались Брюс Ли и Мадонна, из старого магнитофона Панасоник пел Бутусов, Эм Си Хаммер, мы танцевали под Технотроник, потом уже появились Дорс и Нирвана, а с экранов телевизоров вещал Кашпировский, люди ставили баночки воды перед экранами телевизоров, Алан Чумак, еще один шарлатан, заряжал эту воду… Благодаря пирамидам Мавроди многие заработали и разорились. Мы смотрели фильмы со Шварценеггером в видеоклубах всего за рубль, собирали и курили бычки. Дома у нас появились кассетные видеомагнитофоны и запрещенные фильмы Эммануэль… В школьном театре мы ставили Оскара Уайльда и Сомерсета Моэма, читали в оригинале Шекспира и Элиота, выходцы из хороших семей, мы все рано стали курить и бухать. Со временем не осталось ни одного подъезда на Кутузовском проспекте, который мы бы не обоссали, не обблевали, но, на удивление многие из нас, долго умудрились хранить целомудрие, этот последний оплот воспитания… Что касается меня, я потеряла девственность в девятнадцать лет в Греции, с прекрасным взрослым греком, который хотел нанять меня на работу в бары – разводить на деньги клиентов со всеми вытекающими… У него, у этого грека, был такой бизнес с Россией. Это случилось после смерти моей бабушки, когда я покатилась по наклонной, мне было на все наплевать… С папой мы на тот момент были в жутких отношениях благодаря мачехе, которая нас поссорила… Папа принял решение отселить меня – с глаз долой и из сердца вон, как говорится, и я переехала жить отдельно в однокомнатную квартиру, доставшуюся мне от бабушки… Я помню, когда я сломала мениск на Кипре, мне нужны были деньги на операцию, я тогда позвонила папе, чтобы занять у него, но он отказал. Пришлось занимать у друзей. За несколько месяцев до этого под ЛСД я увидела огонь на другой стороне реки и как будто бы соединилась с ним, в меня вошла сила огня. И мне предложили шикарную высокооплачиваемую работу в нефтяной корпорации, строящей наземные сооружения для Юкоса. Мне тогда было 23 или 24 года. Я вышла на новую работу с деревянной тростью, в коричневом костюме, оранжевой рубашке и в бежевых ботинках.
Конец сумасшедшей эпохи вольных 90-х совпал для нас, для нашего круга молодых, обезумевших от воздуха свободы школьников и студентов с началом эпохи психоделиков. Рейвы, Орбиты, литература, музыка, кинофестивали, выставки, яркие автохтонные персонажи московского андеграунда – Третий Путь, Кризис Жанра, ОГИ, Культурный центр Дом. Первый раз мы попробовали марку, ЛСД на шоу Жана Мишеля Жарра, лазерное шоу, проекция на здание МГУ, 850 лет Москвы. У нас тогда прорвало башню. Апофеозом было, когда над нашей головой нависли подсвеченные самолеты или вертолеты, это было что-то от Апокалипсиса… В ЛСД вообще есть что-то от Апокалипсиса… Пожалуй что такой же степени безумия я достигла только когда мы съели марки и пошли кататься на американских горках в Парк Горького, нас начало вставлять, было страшно и смешно одновременно, после аттракциона мы легли на асфальт на глазах всего честного народа и стали корчиться от кайфа. Как-то у меня случилась передозировка… После марки я покурила шишек, и тогда я просто стерлась, меня не стало… Я не знала, как меня зовут, откуда я, как будто разорвались все нити судьбы… Это было похоже на смерть… Мы остановили машину, и я помню, что я не могла понять, где я живу, мои друзья довезли меня до дома… Меня не отпускало сутки.
Конечно, наше поколение, мы впитывали прежде всего европейскую культуру. Я всегда оставалась ребенком Таллинского взморья, после переезда в Москву продолжилось мое становление как европейской личности, сформировавшейся под влиянием западной культуры. Был еще открыт Музей кино на Баррикадной с ретроспективой новой волны и не только, мы просто не вылезали из темных маленьких залов с настоящим живым сурдопереводом: Фассбиндер, Херцог, Феллини, Антониони, Каурисмяки, Куросава, Бунюэль, Гринуэй, Бергман. Мы читали взахлеб, все подряд – Генри Миллер, Норман Мейлер, Камю, Борхес, Гессе, маркиз де Сад, Кнут Гамсун, Кьеркегор, Сартр. Шикарный был тогда московский кинофестиваль, был еще жив Сергей Бодров младший, какая была интереснейшая программа. А потом карнавалы вдоль набережной Москва реки в районе Зарядья. Клубы Вермель, «4 комнаты», Студио, Территория, Пропаганда, Микс – все было вкусное, стильное, свежее, яркое, интересное.
На смену 90-м пришла эпоха денег, романтика лихих 90-х уступила место золотому тельцу миллениума. Часы пробили, начался новый отсчет. А ведь когда-то мы мечтали, как встретим переломный 2000 год, смену тысячелетий. Все казалось таким далеким, несбыточным, а теперь это уже было так давно…
Я работала в представительствах крупных иностранных кампаний, хорошо зарабатывала, и эпоха наркоты и распутства все-таки завершилась, я выжила.
В нефтяной компании, где я работала администратором месторождений, меня постоянно посылали в командировки в Нефтеюганск и Стрежевой, в Самару и Новый Уренгой. Позже, когда я работала на платном телевидении, я летала на выставку в Канны и постоянно моталась в Лондон, где был наш головной офис. Во время отпусков мы с друзьями ездили по путевкам в Гоа, я навещала своих друзей в Цюрихе, исследовала Париж, Барселону и Лиссабон. Но все эти отпуска, они были как усталое мещанское блеяние, они были ограничены временем, финансами, я была обывателем, потребителем, увязшим в мнимом покое и зонах комфорта.
Проклятия всю жизнь сыпались на меня буквально отовсюду – меня проклинала подруга, мачеха, бывший любовник ссал мне под дверь и вырывал с корнем карнизы, меня чуть не сбросили с крыши, чуть не выжгли глаз, я потеряла несколько зубов и коленную чашечку, меня чуть не поймали с большим количеством наркоты, чуть не убили во мне все самое прекрасное, светлое и вечное, но в итоге я воспряла и родилась заново.
Наверное, надо было переболеть алкоголизмом, чернокнижием, наркоманией, зависимостью от соцсетей. Переболеть гордыней, собой, тобой, джокерами, шестерками, монетками, вставшими на ребро, влюбиться и разлюбить. Переболеть деньгами и безденежьем, вседозволенностью и затвором, бродяжничеством и бездомностью, и, наконец, остаться в дороге, научиться любить и не обладать, быть может, обрести покой; потерять все – родину, дом, родителей, детство, разувериться во всем, отрешиться от всего и всех, чтобы снова стать свободной и заново прочертить соединения с глубинными основами бытия…
И я твердо знаю, что если человек не раскроется в полноту своей человеческой личностной свободы – в самосознании, творчестве, разрушении и созидании, если не раскроется в нем чувство собственного достоинства, спокойное и отрешенное – пусть на выкорчеванной почве, пусть на развалинах, с белого листа, он, этот человек, не сможет раскрыться в полноту бытия религиозного. Ведь Человек не свободный не может быть с Богом.