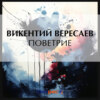Buch lesen: «Живая жизнь», Seite 26
XI
«Истина не есть нечто такое, что нужно найти, а есть нечто такое, что нужно создать»
В чем основная истина жизни? В чем ценность жизни, в чем ее цель, ее смысл? Тысячи ответов дает на эти вопросы человек, и именно множественность ответов говорит о каком-то огромном недоразумении, здесь происходящем. Недоразумение в том, что к вопросам подходят с орудием, совершенно непригодным для их разрешения. Это орудие – разум, сознание.
«Основная ошибка кроется в том, – говорит Ницше, – что мы, вместо того чтобы понять сознательность лишь как частность в общей системе жизни, – принимаем ее в качестве масштаба, в качестве высшей ценности жизни… Если захотеть достаточно широко поставить цель жизни, то она не должна бы совпадать ни с одной категорией сознательной жизни; наоборот, она должна была бы еще объяснять каждую из них, как средство, ведущее к сказанной цели».
Эта мысль дерзко была высказана Ницше в то еще время, когда все почтительно преклонялись перед разумом, как перед верховным разрешителем важнейших вопросов жизни. В настоящее время мысль Ницше начинает находить себе широкое признание. Бергсон, например, целиком повторяет ее в своей «Творческой эволюции».
«Наша мысль, в своей чисто логической форме, не способна представить себе действительную природу жизни, – говорит Бергсон. – Жизнь создала ее в определенных обстоятельствах для воздействия на определенные предметы; мысль – только проявление, один из видов жизни, – как же может она охватить жизнь?.. Наш ум неисправимо самонадеян; он думает, что по праву рождения или завоевания, прирожденно или благоприобретено, он обладает всеми существенными элементами для познания истины».
Если не разумом, не мыслью познается истинная природа жизни, то чем же? Чем-то гораздо более глубоким и могучим, нежели разум. «Ощущения и мысли, – говорит Ницше, – это – нечто крайне незначительное и редкое в сравнении с бесчисленными органическими процессами, непрерывно сменяющими друг друга. В самом незначительном процессе господствует целесообразность, которая не по плечу даже нашему высшему знанию: предусмотрительность, выбор, подбор, исправление и т. д. Одним словом, мы тут имеем перед собою деятельность, которую мы должны были бы приписать интеллекту, несравненно более высокому и обладающему несравненно более широким горизонтом, чем известный нам. Мы научились придавать меньшую цену всякому сознанию, мы разучились считать себя ответственными за наше «сам», потому что мы, как сознательные, полагающие цели существа, составляем только самую малую часть его… В результате мы научились понимать, рассматривать само сознательное «я» лишь как орудие на службе у указанного выше верховного, объемлющего интеллекта».
Под нашим сознанием лежит темная, глубокая и таинственная область, не озаряемая светом сознания. Там прячутся в темноте наши инстинкты, по-своему отзывающиеся на явления жизни; там залегает наше основное, органическое жизнечувствование – оценка жизни не на основании умственных соображений и рассуждений, а по живому, непосредственному ощущению жизни; там – то «нутро и чрево», которое одно лишь способно «жизнь полюбить больше, чем смысл ее», или, с другой стороны, – возненавидеть жизнь, несмотря на сознанный умом смысл ее.
Так говорил Заратустра:
«Тело есть великий разум, множественность с одним сознанием, война и мир, стадо и пастух».
«Орудием твоего тела является и твой малый разум, брат мой, твой «дух», как ты его называешь, – маленькое орудие и игрушка твоего великого разума».
«Я, говоришь ты – и горд этим словом. Но больше его, – во что ты не хочешь верить, – твое тело и его великий разум: он не говорит «я», он творит «я».
«Позади твоих мыслей и чувств, брат мой, стоит могучий повелитель, неведомый мудрец, – он называется Сам. В твоем теле живет он, он – твое тело».
«В теле твоем больше разума, чем в твоей наилучшей мудрости. И кто знает, – на что именно нужна твоему телу твоя наилучшая мудрость?»
«Твое Сам смеется над твоим Я и над его гордыми прыжками».
Это «Сам», этот великий разум человека, – вот тот основной раствор, из которого кристаллизуются оценки человеком мира и жизни, мысли человеческие и суждения. Поэтому ценны и интересны не столько человеческие мысли сами по себе, сколько та душевная стихия, которая их произвела. И даже у философов. Изучая философов, нужно смотреть «на их пальцы и между строк».
«Всякая великая философия, – говорит Ницше, – представляла до сих пор самопризнание ее творца и род невольных, бессознательных мемуаров… сознательное мышление даже у философа в большей своей части ведется и направляется на определенные пути его инстинктами. И позади всякой логики и кажущейся самопроизвольности ее движения стоят оценки, точнее говоря, физиологические требования сохранения определенного рода жизни».
Объективной истины не существует. Нелепо искать объективных ценностей. «Как будто ценности скрыты в вещах, и все дело только в том, чтоб овладеть ими!» – иронизирует Ницше. Ценности вещей скрыты не в вещах, а в оценивающем их человеке. «Нет фактов, есть только интерпретации». Поскольку дело идет об оценке жизни, о выяснении ее «смысла», это, несомненно, так.
L'un t'eclaire avec son ardeur,
L'autre en toi met son deuil, Nature!
Ce qui dit à l'un: Sépulture!
Dit a l'autre: Vie et splendeur!
«Один своим горением освещает тебя, Природа, другой в тебя вкладывает свой траур. То самое, что говорит одному: «погребение!» – говорит другому: жизнь и блеск!» (Бодлер). Так не только с природою, а и с жизнью вообще. Наш ум, малый наш разум, руководствуется определенными, объективными нормами мышления, общеобязательными методами наблюдения и исследования. Почему же один человек видит погребение там, где другой видит жизнь и блеск? Потому что ценность жизни определяется не малым разумом, не логическими нормами и методами, а великим разумом «нутра», творящим человеческое «я».
Нутро одного человека – здоровое, крепкое, насквозь освещенное радостно-ярким инстинктом жизни; он жадно и безотчетно влюблен в жизнь, бодро переносит во славу ее жесточайшие удары судьбы. Такое отношение к жизни вызовет и соответственную оценку жизни. Нутро другого – больное, темное, упадочное; жизнь томит его, как плен, на всякий удар жизненного грома он в смятении вздрагивает своими издерганными нервами; он не в состоянии понять, что можно любить в этой жизни, где все только страхи и скорби. И когда человек, в соответствии с этим, строит свое жизнепонимание, – то что же? Возражать ему, опровергать его доводы, стараться убедить его?.. Какой вздор! Никакие доводы и возражения здесь недействительны. Один лишь совет можно дать таким людям:
«Вы должны не переучиваться, не переучивать, но только сказать «прости» своему собственному телу – и замолчать… Верьте, братья мои! Это – тело, которое отчаялось в теле, это – тело, которое отчаялось в земле». Так говорил Заратустра.
В одно чудесное, ласково-жаркое январское утро я стоял в зоологическом саду перед львиными клетками. Это было в Каире. Мальчик-араб в белой ермолке дразнил двух молодых львов с короткими, только еще начинавшими курчавиться гривами: сунется к клетке и потом кинется назад, и зубы яркою улыбкою сверкали на смуглом лице. Львы мягко прыгали за решеткою, бросались то в одну, то в другую сторону, не спуская глаз с мальчика; глаза горели зеленоватыми, загадочно-смеющимися огоньками, и нельзя было угадать, что сделали бы львы, если бы поднять решетку: может быть, растерзали бы мальчика, – может быть, стали бы, как котята, играть с ним.
Сверкала улыбка мальчика, сверкали задорно-веселые глаза львов. И широкою, горячею радостью сверкало солнце над огромными, ласковыми эвкалиптами с серебряными стволами. В небе непрерывно звенело вольное верещание ястребов: их здесь очень много, здесь и солнца нельзя себе представить без реющих в его сверкании могучих ястребиных крыльев; и так здесь становится понятным, почему египтяне изображали солнце в виде диска с ястребиными крыльями.
Душа была в светлом опьянении от непривычного сверкания и блеска кругом, от радостно-победительных кликов, дождем лившихся из солнечного неба. И вдруг что-то черное и тяжелое медленно вошло откуда-то в душу; тоскливо стало в ней и смутно. В соседней клетке лежал большой кордофанский лев. Скрестив передние лапы, он неподвижно смотрел перед собою мимо нас, не захватывая ничего вокруг в свой строгий, ушедший в себя взгляд. Что за глаза были у него! Проникновенные, сурово-скорбные, по-человечески думающие. И это не было обманом зрения. Чувствовалось в них не только настроение больного неволею зверя; в них чуялось подлинное человеческое знание, мудрость, претворяющая настроение в выводы. Да, этот зверь что-то познал, познал какую-то сокровеннейшую правду жизни. И я чувствовал себя перед ним мелким, легкомысленным, и неловко становилось за то бездумное ликование, которое сверкало кругом.
Лев смотрел, пренебрежительно не видя меня, сосредоточенным взглядом, полным мысли и скорби. И, как по строчкам книги, я читал в этом взгляде:
Да, умереть! Уйти навек и без возврата
Туда, куда уйдет и каждый из людей (и зверей).
Стать снова тем ничто, которым был когда-то,
Пред тем, как в мир прийти для жизни и скорбей.
Сочти все радости, что на житейском пире
Из чаши счастия пришлось тебе испить,
И согласись, что, чем бы ни был ты в сем мире,
Есть нечто лучшее, – не быть.
Несомненно, этот зверь, – он умел ставить жизни совершенно определенные вопросы, какие только люди ей ставят, умел из отсутствия ответов делать вполне логические выводы. Разница была только в мелочах: мудрые люди излагают свои выводы в писаниях, мудрый зверь отобразил их в своих глазах. Но существеннейшее, важнейшее было и здесь, и там одинаково.
И вдруг мне представилось: кто-то разломал клетку и выпустил на волю мудрого зверя с разбуженною, человеческою мыслью. Ливийская пустыня – сейчас за городом. И зверь пришел в родную пустыню, к родным зверям, вольным детям песков. И собрались дети песков, бегающие, летающие и ползающие, и окружили мудрого зверя, с удивлением и страхом вглядываясь в его страшные, говорящие глаза, полные темного знания.
И мудрый зверь спросил каждого:
– Счастлив ли ты?
Сочти все радости, что на житейском пире
Из чаши счастия пришлось тебе испить…
Задумались звери. Какие же такие особенные радости? Стали считать. Ну, радость на минуту, когда спариваешься с самкою… Когда добычу поймаешь – тоже, пожалуй, радость. Большая бывает радость, когда выскочишь из опасности.
– И только-то? – с сожалеющею усмешкою спросили глаза мудрого зверя. – А сколько горестей?
Горестей каждый мог насчитать сколько угодно: голод, холод, зной, обиды более сильных зверей, вечные опасности, раны, смерть… Да, горестей очень много!
– Значит?
Звери с недоумением смотрели.
– Что же значит?
– Значит,
И согласись, что, чем бы ни был ты в сем мире,
Есть нечто лучшее, – не быть.
Звери изумились. Этой логики никак не могли вместить их живые души.
– Три радости, двадцать горестей… Плюс три, минус двадцать… Минус семнадцать…
Им ничего решительно не сказал этот зловещий итог, и они ни с какой стороны не могли приладить его к тому могучему чувствованию жизни, которое переполняло их души одинаково среди радостей и горестей.
Звери с большим еще правом, чем Ницше, могут сказать: «Мой гений в моих ноздрях». Они подозрительно потянули носами, подошли к проповеднику и обнюхали его. Шерсть мудреца насквозь была пропитана пронзительным, мерзостным запахом, который стоит в клетках полоненных зверей; из пасти несло смрадом; тронул его плечом вольный ливийский лев – мудрец зашатался на ослабевших ногах…
И тотчас же звери покинули его и отошли прочь. Мудрый зверь остался один. Не пришлось ему сыграть среди зверей роли, которую сыграл смешной человек Достоевского среди блаженных людей планеты-двойника. И подумал мудрый зверь:
«Их взору недоступны бездны жизни, душе их чужды грозные загадки бытия. Все они глупы, как дети, близоруки и поверхностны!»
Но Ницше… Ницше об этом происшествии выскажется совсем иначе. Он скажет:
«О жизни мудрейшие люди всех времен судили одинаково: она не стоит ничего… Всегда и всюду из уст их слышали одну и ту же речь, – речь, полную сомнения, полную тоски, полную усталости от жизни, полную сопротивления жизни. Что доказывает это? На что указывает это? – В прежнее время сказали бы (о, это говорили, и довольно громко, и прежде всего – наши пессимисты!): «Здесь, во всяком случае, что-нибудь должно быть истинным! Consensus sapientium доказывает истину». – Будем ли мы и ныне так говорить? Смеем ли мы это? «Здесь, во всяком случае, что-нибудь должно быть больным», – ответим мы: эти мудрейшие всех времен, надо бы сперва посмотреть на них вблизи! Быть может, все они были уже нетвердыми на ногах? старыми? шатающимися? decadents? Не появляется ли, быть может, мудрость на земле, как ворон, которого вдохновляет запах падали?» (Сумерки кумиров).
А этот обычный прием оценки жизни путем бухгалтерского подведения баланса ее радостей и горестей, – как он возмущает Ницше! «Сумма неудовольствия перевешивает сумму удовольствия; следовательно, небытие мира было бы лучше, чем его бытие. Такого рода болтовня именует себя в наше время пессимизмом!.. Но сам этот пессимизм есть признак глубокого обнищания жизни. Человек не ищет удовольствия и не избегает неудовольствия: читатель поймет, с каким глубоко укоренившимся предрассудком я беру на себя смелость бороться в данном случае. Удовольствие и неудовольствие, это – только следствия, только сопутствующие явления; они – второстепенные вещи, не причины; это – суждения ценности второго ранга».
Кто жив душою, в ком силен инстинкт жизни, кто «пьян жизнью», – тому и в голову не может прийти задавать себе вопрос о смысле и ценности жизни, и тем более измерять эту ценность разностью между суммами жизненных радостей и горестей. В огне не могут водиться черви. В жарко и радостно пылающем огне живой жизни не могут жить вопросы, порождаемые разложением. А именно только чудовищное разложение жизненных инстинктов делает возможным, что человек стоит среди жизни и спрашивает: «для чего? какая цель? какой смысл?» – и не может услышать того, что говорит жизнь, и бросается прочь от нее, и только богом, только «тем миром» способен оправдать ее.
«Если центр тяжести переносят не в жизнь, а в «тот мир», – говорит Ницше, – то у жизни вообще отнимают центр тяжести. Великая ложь о личном бессмертии разрушает всякий разум, всякую природу в инстинкте; все, что есть в инстинктах благодетельного, споспешествующего жизни, ручающегося за будущность, – возбуждает теперь недоверие. Жить так, что нет более смысла жить, – это становится теперь смыслом жизни!»
И Заратустра учит:
«Усталость, которая одним прыжком хочет достигнуть последнего, – одним смертельным прыжком, – бедная, невежественная усталость, которая уже больше не хочет хотеть: она создала всех богов и все потусторонние миры».
«Новой гордости научило меня мое «я», ей учу я людей: больше не прятать головы в песок небесных вещей, но свободно нести ее, эту земную голову, которая творит для земли смысл».
«Новой воле учу я людей: желать того пути, которым слепо шел человек, и назвать его хорошим, и больше не красться от него в сторону, подобно больным и умирающим!»
Этот путь, которым слепо шел человек, – тот же путь, которым идет все живущее, руководимое непогрешимо мудрым слепцом – инстинктом жизни; путь живой жизни, о которой говорит у Достоевского Версилов:
«Что такое живая жизнь, я не знаю. Знаю только, что это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтобы оно было так просто, и, естественно, проходим мимо вот уже многие тысячи лет, не замечая и не узнавая».
Наши мысли о жизни, наши нахождения тайно и незаметно для нас определяются чем-то, лежащим вне нашего сознания. Сознательное «я» думает, ищет, обретает дорогу, победительно вступает на нее – и не подозревает, что его все время толкал именно в этом направлении его неучитываемый «Сам», великий разум его тела. Человек смотрит на мир, думает, что можно верить своим глазам…
О, легковерный! Зачем ты бегущие призраки ловишь?
Нет, чего ищешь, нигде; отвернись, – и утратишь, что любишь.
Все, что ты видишь, – не больше, как твой отразившийся образ:
В нем ничего своего; с тобою он вместе приходит,
Вместе с тобою уйдет…
(Овидий).
Как же велико рабство человеческой души! Как связана она, как беспомощна в своих исканиях и нахождениях! Как призрачна ее кажущаяся свобода! Где и как, в таком случае, может человек найти истину жизни?
Больше, чем кто другой, Ницше испытал на самом себе всю обидную силу этого рабства. Полуживой-полумертвый, полуздоровый-полудекадент, он имел печальную возможность наблюдать в себе постоянную смену и постоянное колебание самых основных душевных настроений. Тот же у человека мозг, те же мыслительные способности сегодня, как вчера. Между тем, вчера он недоумевал, как можно ставить жизни вопросы об ее смысле и ценности; вселенная говорила ему. «жизнь и блеск!» Сегодня же она, сама в себе нисколько не изменившаяся, говорит ему: «погребение!» И напрасны попытки силою представления и воспоминания удержаться при вчерашнем жизнеотношении; то, что вчера было полно покоряющей душу убедительности, сегодня превратилось в мертвые слова, брезгливо отвергаемые душою. Рабство великое и позорное!
И жадно, настороженно вглядывается Ницше в темную глубину своей души и старается разглядеть того таинственного «Самого», который, как игрушками, капризно играет его мыслями и исканиями, и в ничто обращает трудную и мучительную работу ума. Вот он, этот «Сам», великий разум тела, неведомый, слепой повелитель, обративший наше «я» в своего раба.
Но ведь выход есть к освобождению, выход верный и торжествующий. Этот «Сам», могучий хозяин нашего «я», – он слеп, как крот. А наше «я» – зряче. Пускай оно осуждено отображать всегда только то, что чувствует «Сам», но зато оно, это «я», благодаря своей зрячести, способно, в свою очередь, направить своего повелителя по намеченному пути, заставить его влиять на себя не по его, а по своей воле.
Здоровою частью своей души Ницше интуитивно чуял ту основную истину, которою живо все живое, – истину о глубокой, неисчерпаемой самоценности жизни, не нуждающейся ни в каком «оправдании». Но чтобы человек познал эту истину, нужны известные предусловия, нужна почва, которая бы питала ее. Это подсказала Ницше больная, упадочная часть его души, слишком ясно и болезненно чувствовавшая отсутствие этой почвы.
Значит:
«Истина не есть нечто, что существует, и что надо найти и открыть, но нечто, что надо создать».
Тело, великий разум нашего тела, творящий наше «я», оно – источник живой жизни. Нужно пересоздать его, и тогда сама собою придет истина жизни, которую тщетно и беспомощно разыскивает наш ум. «Тут надо именно не ошибиться насчет методики, – говорит Ницше. – Голая дисциплина чувств и мыслей – почти ноль; надо прежде всего убедить тело… Для жребия народа и человечества является решающим обстоятельством, чтобы культура начиналась с надлежащего места, – не с души (что составляло роковое суеверие жрецов и полужрецов): надлежащее место есть тело, жест, диета, физиология, остальное вытекает отсюда… Греки остались поэтому первым культурным событием истории, – они знали, они делали то, что было необходимо; христианство, презиравшее тело, было до сих пор величайшим несчастием человечества».
Ломаного гроша не стоит для Ницше самая глубокомысленная истина, если к ней пришел человек с обложенным языком и дурным запахом изо рта, сиднем сидящий за своим письменным столом. Пусть мускулы быстрее погонят по телу оживившуюся кровь, пусть научится глубоко дышать грудь, пусть много кислорода прихлынет к мозгу, пусть «веселым» станет кишечник – вот тогда с этим человеком можно будет и побеседовать. «Сидячая жизнь есть истинный грех против духа святого», – говорит Ницше. И Заратустра учит: «Поистине, друзья мои, дух есть желудок!»
Дух есть желудок… Так вот оно что! Вот к чему сводятся все великие томления и искания духа, таинственные бездны жизни и ее потрясающие ужасы! Да ведь это, пожалуй, совсем то же самое, что у Мечникова: человеку нужно вырезать толстую и слепую кишку, кормить его простоквашею с болгарскими бациллами, – и он станет «оптимистом». Какая пошлость! Декадент презрительно кривит губы и ополчается на защиту великих запросов и переживаний человеческого духа.
Смотрим в горящие бездны,
Что-то хотим разгадать,
Но усилья ума бесполезны, –
Нам ничего не узнать.
Съевший в науках собаку
Нам говорит свысока,
Что философии всякой
Ценнее слепая кишка,
Что благоденствие наше
И ума плодотворный полет –
Только одна простокваша
Нам несомненно дает…
Разве же можно поверить
В эту слепую кишку?
Разве же можно измерить
Кишкою всю нашу тоску?
Именно с таким остроумием в шестидесятых и семидесятых годах папаши высмеивали своих сыновей-гимназистов, поклонников Бюхнера и Фейербаха. Но пусть читатель не смущается убогостью этого остроумия: стихотворение принадлежит одному из талантливейших наших декадентов. Характерно в нем это глубочайшее презрение к телу в его таинственном и могучем влиянии на дух человека. По этому презрению Ницше сразу и безошибочно узнавал декадента. «Когда отклоняют серьезность самосохранения и увеличения силы тела, т. е. жизни, когда из бледной немочи конструируют идеал, то что же это, как не рецепт декаданса?» – спрашивает он.
Кто презирает тело, с теми Ницше не желает иметь ничего общего, с теми ему совсем не по дороге.
«В самой вашей глупости и презрении вы, презиратели тела, служите вашему «Сам». Я говорю вам: ваше «Сам» хочет умереть и отвращается от жизни».
«Погибнуть хочет ваше «Сам», и поэтому стали вы презирателями тела! Ибо вы больше ничего не способны творить выше себя».
«Поэтому-то полны вы гнева на жизнь и на землю. Несознанная зависть – в косом взгляде вашего презрения».
«Я не пойду вашею дорогою, вы, презиратели тела!»
Ницше твердит и не устает повторять: «Вера в тело фундаментальнее веры в душу», «на первом месте нужно ставить вопрос о здоровье тела, а не о здоровье души», «исходная точка: тело и физиология».
А раз это так, то насколько же важнее серьезное и внимательное изучение той физиологической почвы, на которой вырастает жизнеотношение людей, чем изучение их мыслей и чувств самих по себе. В своей автобиографии Ницше оглядывается назад на свои искания и не может простить себе тех путей, которыми шел. «Невежество в физиологии, – пишет он, – проклятый «идеализм», – вот истинный рок в моей жизни, лишнее и глупое в ней, нечто, из чего не выросло ничего доброго, с чем нет примирения, чему нет возмещения. Последствиями этого идеализма объясняю я себе все ошибки, все большие инстинкты-заблуждения и «скромность» в отношении задачи моей жизни, например, что я стал филологом, – почему, по меньшей мере, не врачом или вообще чем-нибудь, раскрывающим глаза?.. Не было никакой охраны повелительного инстинкта, было забвение своих границ, нечто, чего я себе никогда не прощу. Когда я пришел почти к концу, именно потому, что я пришел почти к концу, я стал размышлять об этой основной неразумности своей жизни – об «идеализме». Только болезнь привела меня к разуму… Сразу сделалось мне ясно до ужаса, как много времени было потрачено, как бесполезно, как произвольно было для моей задачи все мое существование филолога. Медленно, с больными глазами, пробираться среди античных стихотворцев – вот до чего я дошел!.. Реальностей вовсе не было внутри моего знания, а «идеальности» не годились ни к черту! Поистине, жгучая жажда охватила меня: с этих пор я, действительно, не занимался ничем другим, кроме физиологии, медицины и естественных наук».
В великой своей убогости и нищете стоит перед Ницше наличный человек, лишенный всякого чувства жизни, всякой цельности, с устремлениями, противоречащими инстинктам, – воплощенная «биологическая фальшивость» и «физиологическое самопротиворечие». «Общее отклонение человечества от своих коренных инстинктов, – говорит Ницше, – общий декаданс в деле установления ценностей есть вопрос par excellence, основная загадка, которую задает философу животное-«человек»
Само по себе это «животное» достаточно неудачно. «Человечество, несомненно, скорее средство, чем цель. Дело идет о типе: человечество – просто материал для опыта, колоссальный излишек неудавшегося, – поле обломков». Но великая надежда в том, что внимание человечества направлено в надлежащую сторону. «Наша жадность в деле познания природы, – говорит Ницше, – есть средство, с помощью которого наше тело стремится к самоусовершенствованию. Или скорее: предпринимаются сотни тысяч экспериментов, чтобы изменить способы питания, обстановку, образ жизни нашего тела: сознание и оценки в нем, все виды удовольствия и неудовольствия – показатели этих изменений и экспериментов. В конечном выводе, дело идет вовсе не о человеке: он должен быть преодолен».
И так говорит Заратустра:
«Создайте себе высшее тело!»
«Человек есть нечто, что должно преодолеть. Что совершили вы, чтобы преодолеть его?»
«Все существа до сих пор стремились создавать нечто выше себя: и вы хотите быть отливом этого великого прилива и предпочитаете возвратиться к зверю, чем преодолеть человека?»
«Что велико в человеке, это – то, что он мост, а не цель; что можно любить в человеке, это то, что он – переход и гибель».
Человек погибнет. И придет на его место сверхчеловек.
Но здесь мы можем расстаться с Ницше. Пусть останутся при нем те «открытия», которые Ницше – полнейший профан в биологии – делает относительно основного направления всеобщего биологического процесса и относительно условий для создания высшего человеческого типа.
«Весь животный и растительный мир не развивается от низшего к высшему, – утверждает Ницше. – Человек, как вид, не прогрессирует. Правда, достигаются более высокие типы, но они не сохраняются. Уровень вида не поднимается… Я познал неосуществимость стремления борьбы против упадка. Тогда я пошел дальше по пути разложения – в этом нашел я для немногих новые источники силы. Я познал, что состояние разложения, в котором единичные личности могут достигать небывалой степени совершенства, является отображением и частным случаем всеобщего бытия».
Сверхчеловек и есть эта единичная совершенная личность, которая вырастет на почве человеческого разложения, как пышный цветок на плодородном перегное. Высшее счастье и высшее призвание человека – стремиться стать таким перегноем, чтоб сделать возможным грядущего сверхчеловека. В этом – новая мораль, к которой зовет людей разрушитель морали Ницше.
Но не будем все это подвергать критике. Не будем также спорить с Ницше, когда инстинкт жизни, волю к жизни он вдруг начинает подменять в своих построениях волею к «могуществу». Это завело бы нас слишком далеко. Простимся с Ницше. И, как драгоценную жемчужину-талисман, возьмем с собою его мысль о существе жизненной истины:
«Истина не есть нечто такое, что нужно найти, но нечто такое, что нужно создать».