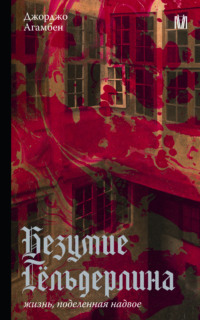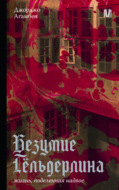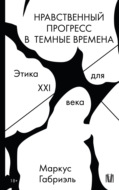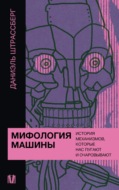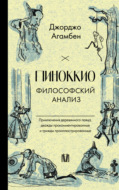Buch lesen: "Безумие Гёльдерлина. Жизнь, поделенная надвое", Seite 3
Тогда почему Гёльдерлин называет современную трагедию идиллией, формой не только противоположной трагическому, но и вплотную подошедшей к комедии?
Это радикальное развитие мысли поэта совпадает с направлением его рассуждений, которыми сопровождаются три редакции трагедии «Смерть Эмпедокла», созданные в период с весны 1798 по начало 1800 года. Как отмечают исследователи, Гёльдерлин раз за разом прерывает работу над текущим текстом, чтобы приняться за новый, кардинально отличающийся от предыдущего. Этот мучительный процесс идет параллельно с постепенным разрушением самого понятия трагического, и в конце концов произведение превращается в «незаконченный бюст», или тело без рук и ног42. В этом контексте основополагающее значение приобретает длинная заметка под названием «Пояснение к Эмпедоклу»: в ней типичное для трагедии разрешение конфликта посредством смерти героя в итоге оказывается неприемлемым и обманчивым. Трагическое здесь определяется через противостояние органического, ограниченной и осознанной индивидуальности, символизирующей искусство, и аоргического, то есть безграничной и непостижимой природы. По мере развития действия в трагедии каждый из двух элементов перетекает в собственную противоположность, а то, что распалось, вновь обретает свою органическую целостность. Тот миг, когда трагическое чувство достигает своей наивысшей точки, впрочем, совпадает со смертью героя: «В центре всего (in der Mitte) стоит борьба и смерть личности, та секунда, когда органическое отказывается от ориентации на Я, от своей частной жизни, которая ранее была доведена до крайности, а аоргическое отказывается от универсальности, но не так, как изначально, не в идеальном смешении, а в крайне жестокой и подлинной борьбе (Kampf)»43.
В результате этой схватки, где противоречивые начала перетекают одно в другое, происходит их единение: «Крайняя степень вражды на самом деле выливается в окончательное примирение»44. Однако стоит заметить, что сразу после этого примирения оно объявляется обманчивым (scheinbar) – и, более того, лживым. Поскольку оно возникло в результате конфликта, каждый из двух элементов снова доводит свои устремления до крайности, «таким образом, миг их единения кажется все более эфемерным, подобно призраку (Trugbild)… и радостная ложь (der glückliche Betrug) примирения рассеивается»45. Если в этом смысле Эмпедокл – искупительная жертва (Opfer) своего времени, мир, воцаряющийся благодаря его смерти, иллюзорен, и эта иллюзорность принимает такую же форму, как и все подлинно трагическое:
Следовательно, Эмпедокл должен был пасть жертвой своего времени, и вопросы, поставленные его жизненной судьбой, решались в его образе только для видимости. Их разрешение неизбежно стало временным и обманчивым, как происходит примерно со всеми трагическими персонажами: их нравы и проявления представляют собой лишь попытки решить вопросы судьбы, и от всех них в итоге отказываются, поскольку они не универсально применимы… в результате тот, кто, на первый взгляд, полностью определяет свою судьбу, одновременно становится в высшей степени жертвой, в первую очередь ввиду собственной тленности (Vergänglichkeit) и ввиду того, что упорствует в этих стремлениях46.
Гёльдерлин забрасывает и эту последнюю редакцию «Эмпедокла», поскольку осознает, что смерть искупительной жертвы не дает ничего, кроме исключительно обманчивого примирения, и что «современная трагедия» возможна лишь при условии, что автор откажется от самой идеи жертвенной смерти. В этом свете обескураживающие высказывания из письма Бёлендорфу, в которых слышатся почти комические нотки, выглядят уже более понятными: «Именно в этом для нас и состоит Трагическое: в том, что мы покидаем мир живых в полнейшем молчании, уложенные в какой-то ящик, а не пожираемые пламенем, посредством чего мы расплачиваемся за тот огонь, который не смогли обуздать».
Так или иначе, определяющее значение в современной трагедии, или, точнее, в антиподе этого жанра, имеет исчезновение искупительной жертвы. В одном особенно насыщенном смыслами абзаце из «Примечаний к Антигоне» Гёльдерлин различает два подхода к статусу трагического слова – греческий и немецкий. Если любое трагическое представление держится на «деятельном» слове (in dem faktischen Worte), у греков оно действует опосредованно (mittelbarer faktisch wird), потому что затрагивает физическое тело и «то тело, которое захвачено словом, убивает по-настоящему» (wircklich tötet47). У немцев же слову не нужно убивать по-настоящему, ведь оно воздействует непосредственно и «захватывает скорее духовное тело». Следующий пассаж объясняет суть этого противопоставления: в нем проводится различие между двумя свойствами слова, и Гёльдерлин выражает его посредством двух не самых очевидных на первый взгляд эпитетов, но их значение, без сомнения, ясно:
То, что действительно48 смертельно (das tödlichfaktische), подлинное убийство словом (der wirkliche Mord aus Worten), следует считать скорее свойственной грекам формой искусства, подчиненной его общенациональной форме. Эта форма искусства, как несложно доказать, скорее будет подлинно убивающим словом (tötendfaktisches), нежели подлинно смертельным (tödlichfaktisches), и не окончится убийством или смертью, так как именно в этом и улавливается подлинно трагический дух: он куда больше соответствует действию «Эдипа в Колоне», где слово, вылетающее изо рта вдохновенного героя, ужасно – и оно убивает, впрочем, вовсе не так, как это понимают греки, выражаясь в пластической форме или в состязании, когда слово захватывает тело настолько, что это последнее убивает49.
Искупительная жертва, основополагающая для греческой трагедии, уходит, поскольку слово обращается к «скорее духовному телу»50, то есть напрямую воздействует на него как таковое через самое себя – и влияет на само себя без посредства физической смерти. Следовательно, «скорее духовное тело», которое оно захватывает, – это и есть само слово, и, как поясняется еще через несколько предложений, «его следует понять разумом и присвоить себе через жизнь»51.
В предыдущем абзаце «Примечаний» эта невозможность трагедии принимает вид «возвышенной насмешки», неотличимой от безумия: «Возвышенная насмешка (der erhabene Spott) в той же мере, что и священное безумие (heiliger Wahsinn), – наивысшее проявление человеческого, в большей степени душевное, нежели языковое, и оно превосходит все остальные способы выразить себя…»52. Показательно то, что в том отрывке трагедии, где возникает вопрос о переходе от греческого к немецкому (wie es vom griechischen zum hesperischen gehet), безумие представляется высшим проявлением человеческой натуры и вместе с тем определяется как величественная насмешка: здесь трагедия как будто выходит за свои границы, принимает антитрагический оборот, что в некотором роде наводит на мысли о комическом начале.
Гёльдерлин не единожды обращается в своих размышлениях к поэтическим жанрам: в частности, он делает это в эссе «О разнице поэтических жанров» и «Смена тонов» и всегда упоминает эпическую, лирическую и трагическую поэзию, а также стремится не только определить отличительные особенности каждой из этих форм, но и их взаимоотношения. Не следует забывать, что, как отмечает Штайгер, поэтические жанры – не просто собственность литературоведческой дисциплины, они еще и описывают «возможности, заложенные в основе человеческого существования»53. Что любопытно – в этих текстах нет ни единого упоминания комедии. Однако в письме Клеменсу Брентано от 20 сентября 1806 года Синклер приводит размышления на тему идиллии, в которых сложно не уловить отголоски его не прекращавшихся бурных дискуссий с Гёльдерлином. Этот жанр, исключительный представитель комического, красноречиво противопоставляется трагедии и романтической поэзии. «Мне кажется, ваш текст, – пишет Синклер об одном стихотворении Брентано, – самая настоящая идиллия, то есть пример наивной комической поэзии (eine naiv comisch sei); он отличается от поэзии романтической, которая, кажется, сильнее трогает душу, и поэт, вовсе не из трусости, переходит к изложению… Возможно, вам не нужно, чтобы, читая ваши стихи, я думал о жанре. Но таков мой склад мысли, я всегда держу в голове философию и поэтому считаю, что следует знать чистые образцы и общие законы идиллии… Мне всегда казалось, что в ней комическое не прямолинейно, то есть она принадлежит к самой высокой и благородной его разновидности. Романтическая же поэзия видится мне исключительно трагической, и даже в наших старых немецких романах, где писатели дальше всего уходят от трагедии, не получается пойти дальше, преодолеть равноценное соотношение трагического и комического»54. Не менее четко отложились в памяти Гёльдерлина и строки Шиллера, в которых он сначала противопоставил трагедию и комедию, а после поставил вторую на ступень выше и заметил, что она «идет к более важной цели, и, если бы она ее достигла, всякая трагедия стала бы излишней и невозможной» (sie würde… alle Tragödie überflüssig und unmöglich machen55).
Куда сложнее объяснить то, что, на первый взгляд, Гёльдерлин никак не высказывается о комическом. Как будто он, пусть и осознав невозможность трагедии, смог разглядеть то, что лежит за ней, только впав в безумие, а его душевное расстройство должно было принять на себя особенности и свойства комедии, или же «возвышенной насмешки». Отсюда и возникает чрезмерная учтивость, с которой он принимает посетителей и держит их на расстоянии: «Ваше Величество, ваше высокопреосвященство, господин барон, oui monsieur…»56, отсюда же – бессмысленные слова, сказанные забавы ради, с целью удивить визитеров: «Паллакш, паллакш, вари, вари»57, отсюда – тончайшая ирония, с какой он отвечает человеку, попросившему его написать стихотворение: «Мне стоит сочинить что-то о Греции, о весне или о духе времени?» – или же тому, кому он читает страницу из «Гипериона», а потом вдруг внезапно восклицает: «Смотрите, уважаемый, запятая!»58 Как следствие, последние однообразные четверостишия, которые поэт подписывал псевдонимом Скарданелли, можно воспринимать как идиллии – в том значении, в каком употреблял этот термин Синклер, и они, безусловно, принадлежат к самой высокой и благородной разновидности комического.
После учебы в Йене и двух лет (с 1796 по 1798 год), проведенных в качестве гувернера в доме Гонтардов во Франкфурте, Гёльдерлин часто ищет прибежище в Гомбурге и по-прежнему тесно и счастливо дружит с Синклером. «Ваш дорогой сын, – пишет тот 6 августа 1804 года матери поэта, – чувствует себя замечательно, он спокоен, и не только я, но помимо меня еще шесть или восемь человек из тех, кто успел познакомиться с ним, уверены: то, что кажется смятением рассудка59 (Gemüths Verwirrung), вовсе им не является, это скорее манера поведения, которую он напустил на себя по тщательно скрываемым причинам (aus wohl überdachten Grunden angenommene Äusserungs Art); и эти люди очень рады, что могут разделить его общество… Он живет в доме одного часовщика-француза по фамилии Каламе, как раз в том районе, где хотел поселиться». Как и Шеллинг в своем свидетельстве, Синклер называет кажущуюся эксцентричность Гёльдерлина манерой, которую тот «напустил на себя», а вовсе не безумием. Во всех случаях неизменно отмечается противоречие между внешностью, поведением поэта и тем, что он выказывал на словах. Один из друзей Синклера, Иоганн Исаак Гернинг 28 июня 1804 года записал в своем дневнике следующее: «Синклер привел ко мне Гёльдерлина: он теперь работает библиотекарем, однако этот несчастный вечно погружен в меланхолию, quantum mutatus ab illo60». Дальше в записях значится: «Сегодня на обед пришли Синклер и Гёльдерлин. Последний хвалил мое “Столетие”61 [поэтическое сочинение, посвященное XVIII веку] и сказал, что, в отличие от меня, Рамлер преподнес ту же тему чересчур в лирическом, даже устаревшем ключе… Я правда рад, что смог встретить здесь смыслящего в лирике человека». Впрочем, мать поэта с удивительным упорством отвечает его приятелю, что письмо, которое она получила от сына после долгого молчания, отнюдь не успокоило ее, а даже, наоборот, заставило волноваться, что его прискорбное состояние только ухудшилось.
Именно в это время в жизнь Гёльдерлина внезапно врываются политические потрясения, которые кардинально меняют ее течение. Синклер, исполнявший в качестве правительственного советника важные дипломатические поручения от имени ландграфа, связался с молодым авантюристом, называвшим себя Александром Бланкенштейном: этот юноша предложил ему поучаствовать в некой лотерее с целью разрешить финансовые неурядицы княжества. Вместе с Бланкенштейном Синклер несколько раз встречался в июне 1804 года (при этом, возможно, присутствовал и Гёльдерлин) с бургомистром Бацем из Людвигсбурга и их общим другом Лео фон Зенкендорфом: оба они увлекались либертарианскими62 идеями Французской революции. Мы можем только воображать, каково было содержание этих дискуссий, но, видя то, как победы Наполеона расшатывают неустойчивую конструкцию, которую представляли собой небольшие немецкие конфедерации, Синклер и его друзья, безусловно, рассудили, что единственный способ противостоять захватнической политике – провести в этих краях демократические преобразования. Вот что мы знаем точно: когда Синклер осознал, что Бланкенштейну нельзя доверять, и отменил проведение лотереи, последний отомстил ему, и 29 декабря 1805 года доложил курфюрсту о том, что на него и его министра, графа Винцингероде, готовилось покушение, в чем обвинил своего обидчика.
Министр запросил детали, и 7 февраля доносчик подал записку, где описал планы Синклера, называл его «атеистом и опасным человеком», а также упомянул там Гёльдерлина, впрочем допустив забавную оговорку: «Его приятель Фридрих Гёльдерлин из Нюртингена, по всей видимости, был в курсе дела, а сейчас впал в некоторое подобие безумства (eine Art Wahnsinn): он постоянно набрасывается на самого Синклера и якобинцев и, к вящему удивлению местных жителей, разражается криками: “Я не хочу быть якобинцем!” (ich will nicht Jacobiner sein)».
Дело принимает совсем дурной оборот. Несмотря на вялые попытки ландграфа помешать этому, Синклера арестовали в два часа ночи 26 февраля прямо на глазах примерно сотни свидетелей, среди которых мог оказаться и Гёльдерлин; его перевели в тюрьму Солитюд в Вюртемберге. В дальнейших показаниях, которые Бланкенштейн даст судьям, проводившим расследование, он заявил, что ездил с обоими приятелями из Штутгарта в Гомбург и что «Гёльдерлину было известно о намерениях Синклера», но «недавно он практически сошел с ума (fast wahnsinnig geworden), грубо оскорбляет друга и восклицает: “Я не хочу быть якобинцем, vive le roi!”63».
Поскольку поэта действительно вполне могли арестовать, ландграф 5 марта передал судье, который вел дело, прошение о том, чтобы его, если это возможно, освободили от следствия:
Друг фон Синклера, магистр Гёльдерлин из Нюртингена, живет в Гомбурге с июля прошлого года. Он уже несколько месяцев пребывает в таком глубочайшем отчаянии, что с ним следует обращаться так, словно (so als) он и правда буйный безумец (Rasender). Он постоянно кричит, что не хочет быть якобинцем, требует, чтобы все якобинцы пошли прочь и заверяет, что может с чистой совестью предстать перед своим дорогим курфюрстом. Господин ландграф просит, чтобы, если начнется расследование, к высылке этого человека отнеслись с осторожностью. При условии, что это все же сочтут необходимым, бедолагу следует заключить под охрану и отправить на постоянное лечение, поскольку тогда ему не позволят вернуться в Гомбург.
Возможно, Гёльдерлин, оказавшись в крайне рискованной ситуации, решил воспользоваться витавшими вокруг него слухами о безумии, чтобы выйти из затруднительного положения. В пользу этого предположения говорят произносимые им слова: кажется, целью этих восклицаний было отмежеваться от виновных (так, он оскорбляет своего друга Синклера) и от революционных помыслов, в которых его могли обвинить. Хотя высказывания Берто о том, что Гёльдерлин поддерживал якобинцев, не соответствуют истине (в письме брату Карлу от июля 1793 года поэт выражает радость по поводу убийства Марата, называет того мерзким тираном и скорее симпатизирует представителю жирондистов Бриссо), он, безусловно, с большим вовлечением наблюдал за событиями во Франции. Впрочем, у него не было причин – если только не ради собственной выгоды – ни кричать «да здравствует король», ни вставать на сторону курфюрста и его министра Винцингероде, известных своими антидемократическими взглядами. Однако, было ли его поведение притворством или нет, оно возымело действие. С другой стороны, Синклер во время допроса, которому его незамедлительно подвергли сразу после ареста, подтвердил, что его друг находится в измененном состоянии сознания («У него лишь время от времени случаются dilucida intervalla»64), а на вопрос, слышал ли он, чтобы приятель говорил, будто не хочет быть якобинцем, с уверенностью ответил отрицательно – что, без сомнения, соответствовало правде.
Судья, занимавшийся этим делом, справился о Гёльдерлине в деканате и консистории Нюртингена, и там его тоже заверили в невменяемости вероятного подозреваемого: несмотря на «доброе расположение духа», «большие способности и прилежание магистра Гёльдерле (sic65), «излишние штудии» и «крайне болезненное воображение» произвели в его душе некое «смятение» (Verwirrung). В конце концов по запросу судебной комиссии гомбургский врач, physicus ordinarius66 Георг Фридрих Карл Мюллер, 9 апреля выдал заключение, которое официально подтверждает (пусть и с некоторыми оговорками и в манере, полностью лишенной научной строгости) безумие магистра, после чего с того сняли все возможные обвинения:
Я могу лишь отчасти исполнить вверенное мне поручение по части магистра Гёльдерлина, поскольку я не его врач и, как следствие, не знаком в подробностях с его состоянием; все, что я могу сказать, – вышеуказанный господин уже в 1799 году, прибыв в Гомбург, страдал сильной ипохондрией… ее ничем не удалось излечить, и в таком состоянии он покинул город. С тех пор я ничего о нем не слышал вплоть до прошлого лета, когда он снова приехал, и тогда до меня дошли разговоры, что «Гёльдерлин вернулся, но он сошел с ума». Я вспомнил о его ипохондрии, поэтому рассудил, что эти слухи не совсем правдивы, однако хотел лично убедиться в их подлинности и решил поговорить с ним. Как же меня поразило то, что я увидел: разум этого человека настолько расшатан (zerrüttet), с ним невозможно было обменяться даже парой осмысленных слов, им овладело сильнейшее беспокойство. Я несколько раз заходил к нему, но всякий раз замечал, что его состояние ухудшилось, а речи стали невразумительными. Теперь его безумие переросло в неистовство (Raserei), посему его изречения совершенно невозможно понять: это смесь из немецкого, греческого и латыни.
С этого времени Гёльдерлин, каким бы ни было его душевное состояние, в некотором роде вынужден с пиететом относиться к диагнозу, уберегшему его от ареста. В последующие месяцы он покинул дом часовщика Каламе, где ранее обитал, переехал к шорнику Латтнеру и там «днем и ночью» играл на пианино. 19 июня он снова встретился с Гернингом. В своем дневнике тот отметил, в такой же неоднозначной манере, как и годом ранее, что поэт положительно отозвался о дидактической поэме, над которой велась работа: «Несчастный Гёльдерлин даже похвалил мои мысли, но сказал не вкладывать в них слишком много морали. Что говорит в нем: здравый или же больной рассудок?» Спустя несколько недель тот же Гернинг в письме Гёте сообщил, что Гёльдерлин по-прежнему трудится над переводами из Пиндара («Гёльдерлин все так же наполовину безумен и активно занимается Пиндаром»). 9 июля Синклера оправдали, и он вернулся в Гомбург, где встретил приятеля в благостном настроении. В сентябре он виделся в Берлине с Шарлоттой фон Кальб, которая в письме Жан-Полю приводит выдержки из разговоров с Синклером и так высказывается о Гёльдерлине: «Этот человек – буйнопомешанный (wütend wahnsinnig); несмотря на это, его разум поднялся до таких высот, какие доступны лишь вдохновленному Богом провидцу». Наполовину безумен, но, возможно, здоров, буйнопомешанный – и в то же время провидец: мнения по поводу состояния поэта по-прежнему мечутся между двумя противоположными полюсами.
Двадцать четвертого сентября принцесса Марианна Прусская писала своей сестре Марианне Гомбургской, что уже несколько месяцев читает «Гиперион»: «Вот как? Мне так нравится эта книга! А что там с ее автором?»
Двадцать девятого октября в письме сыну мать Гёльдерлина – единственный раз в дошедшей до нас переписке – призналась, что дала ему повод ненавидеть себя: «Возможно, я, сама того не зная и не желая, по какой-то причине настроила тебя против себя… Будь благоразумен, дай о себе знать, я попробую исправиться».
Даже самые внимательные исследователи творчества поэта по-прежнему рассматривают его полный крайностей духовный путь как вариацию трагической парадигмы. Берто предполагает, что Гёльдерлин воспринимал собственную жизнь через призму гегелевской концепции трагического героя, одновременно виновного и безвинного, и после кончины Сюзетты Гонтард в некотором роде винил себя в ее смерти. «Только тот герой, – пишет он, – кто одновременно виновен и безвинен, как Эдип, как Антигона, может быть поистине трагическим… Только через соотношение вины и ее отсутствия он становится трагической фигурой»67. Примечательно следующее: Берто хоть и уточняет, что Гёльдерлин почти никогда не употребляет слово «вина» (Schuld), он все равно усматривает здесь аналогию и даже видит влияние гегелевских представлений о трагическом. Однако дело обстоит ровно наоборот: как заметил Джанни Каркия, поэт предпринимает попытку отойти от диалектики трагического и мнимого примирения противоположных начал.
Жертвенной мистике, объединению разъятых полюсов искусства и природы посредством трагической смерти Гёльдерлин противопоставляет совсем иную возможность разрешения конфликта, которую уловил уже у Софокла, и она скорее конечная и эксцентрическая, нежели вечная и имманентная… По сравнению с позитивным видением, предлагаемым посткантианским идеализмом, для которого парадигма трагической смерти зачастую становится архетипом диалектического разрешения противоречия, позиция Гёльдерлина в большей степени стойко зиждется на кантовском отрицательном напряжении68.
Именно в конце «Примечаний к Эдипу» он противопоставляет трагико-диалектическому примирению враждующих начал – человеческого и божественного – искажение и распад, из чего действительно складывается весьма оригинальный образ «священного предательства»:
Дабы миропорядок не знал пустот и воспоминание о божественных существах сохранялось вечно, Бог и человек взаимодействуют так, чтобы позабыть о самой идее неверности, поскольку о божественной неверности следует помнить прежде всего. В эту секунду человек забывает о себе, а Бог оборачивается предателем – но предателем священным. Крайняя степень пассивности предполагает исключительно временны´е и пространственные формы восприятия69.
Не только это превращение, или же священное «предательство», переходит в искаженное состояние и забвение, исключающие вероятность диалектического примирения; персонажи трагедии, как говорится в «Примечаниях к Антигоне», отчуждаются от своего «идейного образа» (Ideengestalt), они принимают антитрагическое, если не сказать почти комическое обличье. Они не «борются за правду или же подобны тем, кто защищает свою жизнь, собственность или честь… Они противопоставляются друг другу исключительно как персонажи, герои, принадлежащие к одному сословию, и таким образом приобретают застывшую форму». Обращение трагического персонажа в комического, определяемого происхождением, подчеркивается тем, что трагический конфликт лишается содержания, становится чисто формальным и потому больше не представляется как борьба не на жизнь, а на смерть; теперь это «бег наперегонки по коридорам: кто первый выбьется из сил и толкнет соперника – проиграл»70 (нельзя отрицать, что уже само это сравнение звучит комично).
В духе, ничуть не в меньшей степени противоположном трагическому, Гёльдерлин осознает и проживает также отсутствие бога, через которое определяет положение человека в современную ему эпоху. Те из исследователей, кто подробно рассматривает атеистические настроения в позднем творчестве поэта, – начиная с Бланшо и заканчивая Хайдеггером – неустанно цитируют строчку из стихотворения «Хлеб и вино»: в ней автор безапелляционно заявляет, что оставленный богами человек не может в полной мере пережить произошедшее, «но заблуждение, как и дрема, помогает, а нужда и ночь делают нас сильнее»71. А также они особенно обращают внимание на последние две (исправленные) строки из «Призвания поэта» (Dichterberuf): в них он точно так же категорично пишет, что творцу «не нужно никакое оружие, никакая хитрость, пока ему помогает отсутствие бога»72. И все же эти исследователи, кажется, не замечают, что смерть или отсутствие бога в этом случае – вовсе не трагическое обстоятельство (до такой степени теологического нигилизма, вероятно, не дошел и сам Ницше), а поэт, в отличие от Хайдеггера в последние годы жизни, не ждет появления другого божественного существа. Он ощущает исчезновение богов посредством глубокого и в то же время парадоксального чутья, ему, «как древнему Танталу», дозволено увидеть больше, чем он может вынести, посему это событие принимает для него поэтическую и сущностную форму идиллии, или же комедии.

Рис. 6. Неизвестный художник, силуэт магистра Гёльдерлина, 1795 г.
Среди текстов Гёльдерлина есть один, оставшийся незамеченным на фоне всех прочих теоретических сочинений: в нем автор рассуждает о сути комедии и, как это делал Синклер, рядом с ней ставит и идиллию. Это рецензия на драму Зигфрида Шмида «Героиня», вышедшую в печати в 1801 году. В ней поэт излагает самую настоящую теорию комического, яркость которой нельзя не отметить. Текст открывается предисловием (Umschweife), за длинноту которого автор извиняется и в котором пытается дать определение комического жанра, в том числе и с целью развеять «несправедливые предрассудки» о нем. Подлинная суть комедии в том, чтобы представить «правдивый, но вместе с тем поэтически осмысленный и художественно выраженный образ так называемой обыденной жизни (des sogennantes gewöhnlichen… Lebens)». Последнюю Гёльдерлин тут же определяет как нечто «слабо и отдаленно связанное со всем сущим, и, поскольку жизнь эта сама по себе в высшей степени незначительна, ее следует воспринимать посредством поэзии как бесконечно значимую»73.
Следовательно, неотъемлемая часть комического – то самое «обыденное и привычное» (Gemeine und Gewöhnliche), то, от чего поэт отгородился и сам порицал себя за это в письме Людвигу Нойферу в ноябре 1798 года74. Если обыденная жизнь предполагает постепенно ослабевающую связь с миром, поэт, желающий отобразить ее в творчестве, «должен всякий раз выхватывать фрагмент существования из своего жизненного контекста» и вместе с тем «выступать посредником и разрешать» конфликт тех элементов, которые в этом процессе разделения выглядят «чрезмерными и однобокими»75. И сделать это он может, не только «возвышая и делая чувственно явным» вышеуказанное противопоставление, но и представляя его как «естественную правду» (Naturwahrheit): «Именно там, где материя сильнее всего оторвана от реальности, как в идиллии, комедии или элегии, поэт должен в высшей степени совершенно произвести это извлечение, поскольку он передает жизнь в эстетически верном виде, показывает, каково ее самое естественное отношение ко всему»76.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.