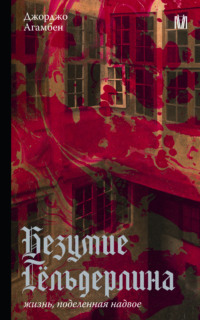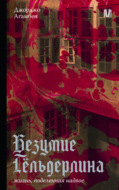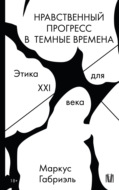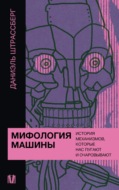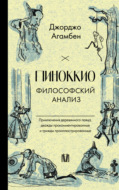Buch lesen: "Безумие Гёльдерлина. Жизнь, поделенная надвое", Seite 2
В письмах, которые мать поэта отправляла Синклеру, также обнаруживается аналогичная двойственность, как будто его безумие нужно доказать любым способом, даже когда факты, по всей видимости, опровергают это. Синклер должен был отдавать себе отчет, что подобное поведение родительницы могло нанести Гёльдерлину вред, и, поскольку он не разглядел у своего друга подлинных признаков «смятения духа» (Geistesverwirrung), он 17 июня 1803 года написал ей, что, вероятно, ее сыну мучительно понимать, что другие считают, будто он помешался рассудком: «Он слишком чувствительный человек, чтобы не суметь прочесть в глубинах чужой души даже самое потаенное суждение о самом себе». После того как издатель Вильманс согласился опубликовать переводы Софокла, над которыми Гёльдерлин усердно работал несколько месяцев, Синклер попросил его мать отпустить его в Хомбург, где его ждал друг, «который знает его и его обстоятельства, от которого ему нечего скрывать». Женщина ответила ему, что ее сын, а она постоянно называет его «несчастливцем» (der l[iebe] unglückliche – «мой дорогой несчастливец»), не сможет путешествовать в одиночку и, «ввиду его удручающего душевного состояния», он будет друзьям только в тягость. Его самочувствие действительно «особо не улучшилось… но и не ухудшилось». Признаком безумия в глазах матери становится то, что поэт неустанно работает над своими произведениями: «Я надеялась, что, когда этому несчастливцу больше не придется так тяжко трудиться, как в прошлом году – даже наши молитвы оказались бессильны отвадить его от чрезмерного усердия, – его душевное здоровье окрепнет». В следующем письме она упоминает: «К сожалению, его самочувствие не улучшилось, хотя, – почти с досадой признается она затем, – кое-что изменилось, поскольку горячность, то и дело обуревавшая его, слава богу, почти совсем сошла на нет». Когда в 1804 году Синклеру удается получить для Гёльдерина от ландграфа должность библиотекаря, которую друг с радостью принимает, мать протестует и говорит, что «он пока что не сможет занять это место, ведь оно, по моему скромному мнению, требует определенного душевного порядка, а способности моего дорогого и несчастного сына к здравомыслию, увы, уже очень слабы… Возможно, этот несчастливец, на радостях от присутствия Вашей глубокоуважаемой персоны и ввиду почтения, которое вы ему выказываете, прибегнул ко всем своим умственным ресурсам, а потому вы не до конца осознаете, насколько его разум помутился». Кажется, ее волнение улеглось, только когда спустя два года ей удалось пристроить сына в клинику «медика и профессора» фон Аутенрита в Штутгарте, а затем – до конца дней поселить его в доме плотника Циммера, где она ни разу не навестит его. Поэтому совсем не удивительно, что, если верить свидетельству самого Циммера, Гёльдерлин не выносил своих родственников (Hölderlin kan aber seine Verwandten nicht ausstehen).
Вопрос не в том, чтобы убедиться, сошел ли Гёльдерлин с ума или нет. И даже не в том, считал ли он себя безумцем. Важнее всего – хотел ли он им быть, или скорее – стало ли для него безумие в определенный момент чем-то вроде потребности, чем-то, от чего он не мог отказаться, при этом не проявив малодушия, ведь он, «подобно древнему Танталу, <…> получил от богов больше, чем мог вынести». О Свифте и Гоголе говорили, что они изо всех сил пытались сойти с ума и в конце концов им это удалось. Гёльдерлин не стремился к безумию, ему пришлось принять его, но, как заметил Берто, его восприятие этого состояния не имело ничего общего с нашим представлением о душевной болезни. Для него это было некое пространство, где можно или следует жить. Поэтому, когда ему нужно перевести в «Аяксе» Софокла фразу «theiai maniai xynaulos», что дословно означает «живущий с божественным безумием», он передает ее смысл так: «sein Haus ist göttliche Wahnsinn» – «его дом – божественное безумие».
В апреле 1804 года издатель Вильманс выпускает переводы пьес Софокла «Эдип» и «Антигона»: их сопровождают два длинных комментария, в которых кратко изложены воззрения Гёльдерлина в их окончательном виде. Это последняя публикация поэта8; и, несмотря на огорчившие автора опечатки, без нее невозможно понять, что он подразумевал, когда рассуждал о вольном обращении с собственным и противопоставлял отечественному (национальному) чуждое, посредством которого переосмыслял взаимоотношения с греческими образцами. В письме, отправленном издателю в сентябре 1803 года, он так излагает суть своей задумки:
Я надеюсь дать представление о греческом искусстве, которое чуждо нам ввиду национальных условностей и упущений, с которыми это искусство всегда мирилось, и сделать это настолько живо, насколько я смогу подчеркнуть в нем то восточное (das Orientalische), что оно всегда отрицало, исправить допущенные им художественные оплошности – там, где они проявятся.
Особенно стоит отметить, что Гёльдерлин решил проиллюстрировать эту проблемную область на примере своих переводов, которые много лет спустя Вальтер Беньямин9 будет определять как «прообраз их [трагедий Софокла] формы» и угадает в них «исконную опасность для всякого перевода: ворота столь расширившегося и управляемого языка могут захлопнуться и запереть переводчика в молчании». Ничуть не менее важно то, как восприняла их культура того времени; об их рецепции весьма красноречиво свидетельствует письмо Иоганна Генриха Фосса, написанное в октябре 1804 года: «Что скажешь о гёльдерлиновском Софокле? Однажды вечером несколько дней тому назад я встречался с Шиллером и Гёте и повеселил их этими переводами. Почитай хотя бы четвертый стасим хора в “Антигоне” – ты бы видел, как смеялся Шиллер!» Так же безжалостно высказался и Шеллинг в письме Гёте в июле того же года: «Он [Гёльдерлин] чувствует себя лучше, чем в прошлом году, но по-прежнему явно пребывает в умственном расстройстве (Zerrüttung). Его переводы Софокла отражают поврежденное состояние его рассудка». Хотя поверхностность этих суждений, как и глупые насмешки Шиллера и Гёте, сложно извинить, они всё же самым явственным образом показывают, насколько замысел Гёльдерлина несоизмерим с культурой того времени. То, что он попытался помыслить – перевод как калька, одновременно исправляющая оригинал, – было настолько невероятно, что воспринять это могли исключительно как проявление слабоумия и ментального расстройства. Когда в 1797 году Гёте прочитал стихотворения «К Эфиру»10 и «Странник», он не засмеялся, но счел эти тексты «не в полной мере неудачными (nicht ganz ungünstig)» и посоветовал молодому поэту «писать небольшие стихотворные произведения, а также посвятить себя какому-нибудь занимательному с человеческой точки зрения предмету».

Рис. 5. Фронтиспис «Трагедий» Софокла в переводе Гёльдерлина, 1804 г.
Переводя Софокла, равно как и Пиндара примерно в это же время, Гёльдерлин не стремится – с точки зрения того, что тогда понималось и до сих пор в целом понимается под переводом, – найти смысловой аналог выражению на иностранном языке в языке родном, он скорее ставит себе целью, как это верно подмечено, достичь некоего «мимезиса» или даже «мимически» воспроизвести форму оригинала11. Следуя модели, которую считал сумасбродной уже Цицерон, Гёльдерлин не просто переводит «слово в слово», verbum pro verbo, но и принуждает немецкий синтаксис точь-в-точь соответствовать синтаксическому строю греческого языка. Он настолько упорно придерживается этого буквализма, что не гнушается выдумывать неологизмы, совпадающие по структуре со словами в изначальном тексте (греческое siderocharmes, словарное значение которого – «воинственный», переводчик передает, обращаясь к этимологической форме: eisenerfreuten – дословно «железнорадные»). Результат неизменной приверженности этому «чрезмерно дословному»12 подходу таков: перевод зачастую настолько сильно отдаляется от заложенного в оригинале смысла, что это дало повод неосторожно обмолвиться о самых настоящих ошибках, возникших по причине «весьма ограниченных познаний в области греческого языка» или «скудности учебных материалов»13. Не удивительно, что даже такой весьма благорасположенный читатель, как Шваб, мог заявить: такой «совершенно буквальный» перевод невозможно понять без оригинала.
Начиная с диссертации Норберта фон Хеллинграта о «Переложениях Пиндара» (1910 г.) мнение о гёльдерлиновских переводах с греческого постепенно начинает меняться. Проводя на примере греческой риторики различие между двумя способами гармонично соотнести отдельные слова внутри смыслового контекста фразы, Хеллинграт противопоставляет «гладкую связь» (glatte Fügung), при которой языковые единицы жестко подчинены синтаксическому окружению, связи «жесткой» (harte Fügung), которую применяет Гёльдерлин, – при таком подходе каждое слово стремится обособиться и становится практически независимым от предложения, поэтому общий его смысл предполагает множество прочтений, а у читателя создается впечатление, будто перед ним «непривычный и чуждый язык»14. Вальтер Беньямин подхватывает гипотезу Хеллинграта в своем эссе «Задача переводчика» и различает два типа переводов: тот, что направлен исключительно на воспроизведение смысла, и тот, в котором «смысл затрагивает его [язык] лишь как звуки эоловой арфы в дуновении ветра»15, поскольку, как происходит и в текстах Гёльдерлина, переводчик стремится передать непередаваемое. С тех пор по стопам Беньямина пошли и другие исследователи, и они склоняются к тому, чтобы опровергнуть сложившееся предвзятое мнение о гёльдерлиновских переводах, увидеть в них настоящую систему поэтических воззрений. Таких работ становится все больше, и эта тенденция привела к тому, что предпочтение стали отдавать именно «остраняющей» (foreignizing), а не «одомашнивающей» модели перевода (domesticating), в рамках которой переводчик ставит себе задачу остаться невидимкой16. То, что современники Гёльдерлина считали ошибками, в наши дни кажется скорее «творческими погрешностями» (schöpferische Irrtümer17) или же следствием «созидающей воли художника» (künsterlische Gestaltungswille18).
Однако невозможно понять, в чем именно подлинное своеобразие этих переводов и их подражание форме оригинала, если сначала не определить, какую цель они преследовали. Как замечает Вольфганг Биндер19, Гёльдерлин никоим образом не намеревался обогатить уже имеющийся литературный репертуар переводов на немецкий: он ставил перед собой одновременно личную и историко-философскую задачу. Для него она состояла ни много ни мало в том, чтобы как можно сильнее подтолкнуть греческое стихосложение к немецкому (или гесперийскому, как он назовет его в «Примечаниях к Софоклу»), чтобы таким образом выразить его естество и одновременно «исправить» его огрехи.
Здесь стоит обратить внимание на то, как ясно поэт выразился в письме Бёлендорфу: он выдвинул утверждение, согласно которому сложнее всего вольно обращаться со свойственным тому или иному народу, и из этого следует, что греки, для которых божественный огонь и страсть – характерная национальная составляющая, а следовательно, и их слабое место, лучше всего покажут себя в том, что им чуждо, то есть в ясности высказывания (Гёльдерлин еще называет ее «сдержанностью Юноны»). Последователям же Гесперид20 присущи умеренность и четкость в выражении мыслей, и они лучше всего сладят с небесным пламенем и пылкостью, которые не в их природе, а в прозрачности излагаемого, напротив, будут слабы и неловки. Поэтому двойной процесс перевода с греческого так сложен: с одной стороны, греки, отказавшись от присущего им свойства, дабы в высшей степени овладеть даром изложения, возвращаются к своему национальному качеству, божественному огню, который также есть их слабость, благодаря тому, что столкновение с восточной составляющей придает их главному свойству выразительность; с другой – симметрично двигаясь в другую сторону, немцы, превзойдя всех в страсти и пламени, которые им чужды, при соотнесении с греческой моделью, чью ошибочность они вместе с тем исправляют, возвращаются к чистоте выражения, хотя она также их слабость.
Именно в свете этой трудной и двойственной задачи чрезмерная приверженность букве оригинала и непрозрачность, отличающие переводы Гёльдерлина, обретают свое истинное значение: сдержанность Юноны, которую постиг греческий поэт, становится чем-то непрозрачным, недоступным прочтению в той же мере, в которой его немецкий переводчик видит, как свойственная ему самому ясность изложения поддается чужеродному влиянию пылкости и необходимости исправить ее – и одновременно отсылает к слабому и скудному «отеческому» элементу. Следовательно, вольное обращение с собственным имеет два направления: в нем национальное и чуждое, то, что достается даром, и предстающая перед поэтом инаковость, сливаются в несогласный аккорд, и только тот, кто, переводя, оказывается между двумя полюсами напряжения и рискует собственным языком, действительно способен справиться с этой миссией. Поэтому перевод – это не такой же словотворческий процесс, как и все прочие: это исключительное поэтическое пространство, внутри которого происходит то самое свободное обращение с национальным, что оказывается сложнее всего как для поэта, так и для любого народа.
Теперь становится понятно, что подобный вызов не мог принять тот, кто сохранил неизменными принятые в ту эпоху представления о разумности. Как догадывался Беньямин, в этом сложном процессе, разрывающемся между двумя противоположными полюсами языка, «смысл попадает из одной пропасти в другую, пока не возникает опасность, что он вовсе потеряется в бездонных глубинах языка»21. Речь здесь идет, впрочем, не о слабоумии и безумстве, а о столь безграничной преданности своему ремеслу, что Гёльдерлин без колебаний жертвует совершенством художественной формы в угоду разрушительной, раздробленной и в конце концов непостижимой стихотворной манере. После переводов Софокла он будет решать эту парадоксальную задачу двумя следующими способами: в первый раз он выберет самую возвышенную форму греческой поэзии – гимн и, как красноречиво доказывает Гомбургская тетрадь, методично сломает и исказит ее посредством паратаксиса и доведенной до крайности «жесткой связи»; во второй – в случае с четверостишиями времен жизни в башне – он, напротив, обратится к самой наивной и кроткой форме в национальной поэтической традиции и будет однообразно и монотонно воспроизводить ее простую ритмическую структуру.
Философия рождается в ту секунду, когда отдельно взятые личности осознают, что больше не могут ощущать себя частью некоего народа; поскольку народа, к которому поэты, как они сами считали, могут обращаться, больше не существует или он стал для них чем-то чуждым или враждебным. Философия – в первую очередь – это изгнание человека из среды себе подобных, ощущение себя чужестранцем в городе, где этому человеку довелось жить и где он, несмотря ни на что, продолжает обитать, упорно кляня отсутствующий народ. Этот парадокс, описывающий положение философа в обществе, выражен в личности Сократа: он стал настолько чуждым своему народу, что тот приговорил его к смерти; однако, приняв этот вердикт, он снова примкнул к согражданам – уже как тот, кого они безвозвратно изгнали из своих рядов.
Начиная с определенного времени – незадолго до эпохи модерности22 – поэты тоже осознают, что не могут больше обращаться к народу; они понимают, что говорят с тем, кого больше не существует, или же, если народ все же существует, он не желает их слушать. Гёльдерлин – тот, в ком эти противоречия детонируют; тогда поэту приходится соотнести себя с фигурой философа – или же, как говорит он сам в письме Нойферу, искать убежища в лечебнице философии. Тогда он понимает, что его общность с народом, то, что он называл «национальным», и есть его упущение, его слабое место, и в этом отношении он никогда не сможет достигнуть поэтических высот. Отсюда возникает разрыв со стихотворной формой, дробление гимна через паратаксис или штампованные повторы в поздних текстах из башни; отсюда безусловное принятие диагноза («безумец»), который приписали ему соотечественники. И все же он продолжает писать до последнего, одержимо ищет в ночи «немецкую песнь».
Теоретические выкладки по поводу вольного обращения с собственным – вовсе не плод изощренной мысли: если присмотреться, они связаны с конкретными вопросами, злободневность которых особенно очевидна в наши дни. Речь идет о двух категориях, помогающих понять не только историческое развитие каждой отдельной личности, но и любой культуры. Как прозорливо заметил Джанни Каркия23, Гёльдерлин переносит проблему трагедии из области поэтики в область истории философии. Он называет национальным и чуждым два противоположных стремления, действующих в западном мире: первое заставляет обнаружить себя в собственном, а второе – подталкивает к тому, чтобы отстраниться, выйти вовне. Само собой разумеется, что эти два элемента, примерами которых поэт выбирает Германию и Грецию, сравнивая их, – на самом деле неотъемлемая часть каждой отдельной личности и культуры: как выражается сам Гёльдерлин – каждой нации. В этом отношении более чем очевидно, что с Западом случилось следующее: его культура своим непомерным успехом в эпоху модерности обязана тому, что готова почти безоговорочно отказаться от присущих ей с рождения особенностей (религиозных и духовных традиций), дабы обрести первенство в другой области (экономике и технологиях), которую можно назвать для нее чуждой и в рамках которой, с другой стороны, если следовать изложенной ранее логике, ей с самого начала суждено было достигнуть совершенства. В подобных обстоятельствах вполне естественно возникают противоположные настроения, попытки каким-то образом вернуть себе врожденные свойства, то есть «перевести» чуждое в наиболее близкие национальной традиции понятия; впрочем, существует столь же сильный риск, что эти усилия погрязнут в трудностях и противоречиях, из которых не смогут выпутаться – так, по мнению Гёльдерлина, случается с поэтами. И правда, нет ничего сложнее вольного обращения с собственным. Так или иначе, Гёльдерлин попробовал испытать на себе – в жизни и в поэзии – противоречие, вызванное этими двумя основополагающими устремлениями, а также попытался примирить их, какую бы цену ему ни пришлось за это заплатить.
Его душевное состояние в описанный период не повлияло на способность ясно мыслить: это доказывает не только активная и плодотворная работа над поэтическими и философскими сочинениями, но и живой интерес к событиям политической жизни в те годы. Более того – именно по причине вовлечения в политику вопрос о безумии впервые становится достоянием общественности и в итоге принимает форму официального медицинского диагноза 5 апреля 1805 года.
Поскольку у истоков этой причастности к политике стоит дружба с Исааком фон Синклером, будет уместно остановиться на этой во многих отношениях примечательной личности, ведь именно Синклер коренным образом повлиял на жизнь поэта. Он родился в Гомбурге в 1775 году (то есть он на пять лет младше Гёльдерлина) в семье, которая предопределила его будущую политическую карьеру: он служил при ландграфе в небольшом имперском княжестве Гессен-Гомбург. Его отец был гувернером правителя, а молодой Синклер воспитывался вместе с наследными принцами. Он два года изучал право в Тюбингене и впервые встретился с Гёльдерлином в марте 1795 года в Йенском университете, куда перевелся, чтобы посвятить себя философии – в течение зимнего семестра 1794/1795 года он слушал лекции Фихте о наукоучении. В мартовском письме того же года он сообщает одному приятелю о том, что познакомился с магистром Гёльдерлином, «сердечным другом instar omnium24»: «Он молод и вместе с тем обходителен; его эрудиция пробуждает во мне стыд и заставляет меня изо всех сил подражать ему; и с этим лучезарным и очаровательным человеком я рассчитываю провести следующее лето – в уединенном доме с садом. Я многого ожидаю от этого уединения и от своего друга. Я думал предложить ему место наставника для принцев и хотел бы, чего бы то ни стоило, в будущем быть с ним рядом»25. Общность мысли, связывающая двух друзей во время учебы в Йене, прослеживается в «Философских размышлениях» Синклера, которые будут опубликованы лишь в 1971 году; читать их стоит одновременно с эссе «Суждение и бытие» – его Гёльдерлин пишет в первые месяцы 1795 года на форзаце, вырванном из книги: по мнению Фридриха Бейснера, это могло быть «Наукоучение» Фихте, чью доктрину он в своем сочинении основательно ставит под вопрос.
Гёльдерлин начинает с того, что резко критикует фихтевское «абсолютное Я», в котором субъект и объект определяют себя через самосознание. По сути, Фихте закладывает в основу всего «первоначальное разделение» (die ursprüngliche Trennung), посредством которого субъект и объект «внутренне объединены интеллектуальным созерцанием», отделяются друг от друга и становятся возможны. Но поскольку в понятии «перводеления» (Ur-teilung) заложены двухсторонние отношения, внутри которых объект и субъект взаимно связаны, это ведет к «необходимой предпосылке целого, частями которого являются объект и субъект». Фихтевское «Я есть Я» – «самый подходящий пример этого перводеления в качестве теоретического суждения»26, и именно его Гёльдерлин стремится оспорить. Представление о бытии, которое он противопоставляет концепции Я у Фихте, предполагает, напротив, союз субъекта и объекта, чье разделение невозможно. «Там, где субъект и объект соединены совершенно, а не частично, то есть соединены так, что никакое разделение их невозможно, без того чтобы не пострадало существо того, что должно быть разъединено, там и только там может идти речь просто о бытии, как мы это имеем в случае с интеллектуальным созерцанием»27.
Это просто бытие не стоит путать с тождеством Я у Фихте: «Когда я говорю “Я есть Я”, субъект (Я) и объект (Я) соединены не так, что их разделение невозможно, без того чтобы не пострадало существо того, что должно быть разъединено; напротив, Я только и возможно через это отделение Я от Я». В этом месте Гёльдерлин приводит еще один предмет своей критики – самосознание (Selbstbewusstsein): «Как могу я сказать “Я” без самосознания? Но как возможно самосознание? Только так, что я себя противопоставляю себе самому, отделяю себя от себя самого, но, невзирая на это отделение, опознаю себя в противопоставлении как то же самое». Поскольку тождество, лежащее в основе «Наукоучения», не предполагает подлинного единения субъекта и объекта, эссе заканчивается следующим безапелляционным заявлением: «Тождество ≠ абсолютному бытию»28.
«Философские рассуждения» Синклера настолько созвучны мыслям его друга, что можно подумать, будто в них отражаются и обсуждаются вопросы, занимавшие их обоих. Разделение, с которым Гёльдерлин соотносил состояние фихтевского Я, здесь называется рассуждением. «Что происходит, что заложено в рефлексии? Происходит разделение, единство устанавливается так долженствование… разделять – значит на самом деле рефлексировать и устанавливать. Я – не субстанция, оно существует только в рефлексии»29. Здесь содержится явная критика Фихте и, по сути, любого идеализма: «В наукоучении я могу представить деяния своего духа только так, как они представляются в рассуждении». Рассуждение и правда совпадает с формой любого знания и любой науки, поэтому критика его предполагает критику знания: «Задача знания (Wissen) выходит за пределы формы знания. Пределы знания лежат там же, где и пределы самосознания Я, и только посредством Я знание возможно. Форма любого знания – это рефлексия. Я могу испытать то, что лежит за пределами рефлексии, лишь посредством отказа от своего знания, поскольку показываю, что вина в том лежит на моем знании, что я не могу знать и отдаляю от себя форму знания. Это непреложная задача: объединить Бога (активное начало), Я и материю (пассивное начало) таким образом, чтобы предположить нечто вне идеального творения»30.
Неразделимому бытию из гёльдерлиновского эссе соответствует то, что Синклер называет «мир» (Friede) или же athesis, отсутствием позиции: «В начале было согласие, athesis. Затем возникло рассуждение, и из него проистекло гармоничное слияние односторонних точек зрения, пока еще не разделенных в практическом отношении». Если рассуждение пытается познать это не-место, оно перерождается в Я: «Как только мы хотим познать theos (единицу вне позиции, суть), то превращаем ее в Я (абсолютное Я у Фихте). Покуда мы размышляем о ее высшей сути и устанавливаем ее, мы отделяем ее и после этого разделения снова придаем ей свойство неразделимости посредством воссоединения, поэтому бытие разделения в некотором смысле становится предпосылкой, то есть неидеальной концепцией»31.
Синклер прибегает здесь к образу, который он, вероятно, позаимствовал у Гёльдерлина: в своем эссе «О развитии поэтического духа» (в рукописи оно не озаглавлено никак, этим же названием мы обязаны Францу Цинкернагелю), написанном, предположительно, осенью 1799 года, поэт пишет о «трансцендентальном ощущении» (transzendental Empfindung32), а его друг при помощи игры слов обозначает это понятие как aeisthesis33, то есть «бесконечная чувственность»: начало, которое преодолевает противопоставление между тезисом и антитезисом, позицией и ее отсутствием.
Уже из этого краткого изложения становится ясно, что то, о чем пытаются рассуждать Гёльдерлин и Синклер, – ни много ни мало альтернативное направление, отличающееся от того, которое Фихте открыл для философии идеализма; и совсем не удивительно поэтому, что Шеллинг и Гегель не могли поступить иначе, кроме как держаться на расстоянии от духовного пути, исповедуемого их товарищем по университету. В своих последующих сочинениях поэт доверит уже не знанию, а поэзии задачу ухватить это бытие вне позиции, неизбежно ускользающее от рассуждения. Как он сам весьма безапелляционно утверждает в эссе о развитии поэтического духа, поэтическое Я может с достоинством решить эту задачу и постичь «навечно единое и живое начало», в то время как рассуждение способно уловить его только как ничто, исключительно при условии, что оно сумеет познать самого себя. «Это гипербола всех гипербол, самая трудная и наивысшая задача поэтического сознания (если кому-либо удастся однажды разрешить ее, пройдя таким путем) – ухватить изначальное поэтическое единство, поэтическое Я; посредством этого стремления сознание поэта упразднит и вместе с тем сохранит (aufhöbe) индивидуальность этого Я и его чистый объект: единое и живое начала, их гармоничное и активное сосуществование»34.
Именно эту гиперболу всех гипербол в период с 1800 по 1805 год Гёльдерлин и попытается претворить в жизнь.
В этом отношении следует обратить особенное внимание на одну деталь в письме, адресованном Бёлендорфу. Гёльдерлин рассказывает другу о своей драме и о том, насколько в ней он как автор близко подошел к «западному» компоненту. Он пишет следующее: «Эта драма (“Фернандо”) целиком и полностью подлинная современная трагедия (eine ächte moderne Tragödie)». Замечательно то, что он определяет как современную трагедию драму, в подзаголовке которой недвусмысленно значится Eine dramatische Idylle: с технической точки зрения это идиллия, антитрагедийный жанр поэзии. Так, Гегель в своих «Лекциях по эстетике» замечает, что идиллия «отвлекается от всех более глубоких и всеобщих интересов духовной и нравственной жизни и изображает человека в его невинности»35, то есть это полная противоположность трагедии, в центре которой философ ставит неразрешимый конфликт между виной и невинностью. Гегель весьма высокомерно высказывается об этом жанре, где, прямо как в мифе о золотом веке, природа, кажется, без чрезмерных усилий удовлетворяет любые желания человека36, а об авторах, пишущих в нем, говорит, что «скучнее всех Гесснер, так что теперь его, наверное, никто более не читает»37. Однако в те годы идиллия все еще занимает значительное место среди прочих литературных жанров: даже Гёте позволил себе обозначить «Германа и Доротею» как «мещанскую идиллию» (bürgerliche Idylle) и без всякого снисхождения именует ее своей идиллическо-эпической поэмой (mein idyllisch-episches Gedicht). Точно так же Шлегель в «Атенейских фрагментах» называет такие произведения абсолютным тождеством идеального и реального38. Однако в полной мере особый статус этого жанра становится очевидным в эссе Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии», где ему отведен целый раздел. Автор определяет его как поэтическую форму, внутри которой «все противоречие между действительностью и идеалом <…> полностью преодолено», и вся борьба «внутри отдельного человека и всего общества» также полностью завершена39. Поскольку идиллия изображает личность «в состоянии невинности, то есть в состоянии гармонии и мира с самим собой и с внешней средою»40, Шиллер ставит ее рядом с комедией, в которой человек стремится «быть всегда ясным, всегда спокойно взирать на окружающее и на себя самого». В письме Гумбольдту от 30 ноября 1795 года он, исходя из этого, пишет, что если идиллия невозможна, то «самым высоким поэтическим жанром будет считаться комедия»41.
Hegel G. W. F. Estetica. Einaudi, Torino 1967, p. 1221.
Schlegel F. Kritische Ausgabe, b. II, Charakteristiken und Kritiken. Schöningh, München-Paderborn-Wien 1967, p. 204.
Schiller F. Uber naive und sentimentale Dichtung, in F. S. Sämtliche Werke, b. V, Hanser, München 1962, p. 750.