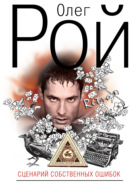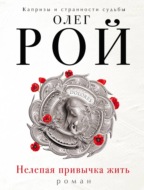Buch lesen: "Вдали от рая"
Памяти моего сына Женечки посвящается

Пролог
Уже неделю подряд, не переставая, лил холодный дождь. Изо дня в день в окне виднелась одна и та же мрачная картина: пышная зелень сада занавешена мутной серой пеленой, небо в свинцовых тучах, мокрая трава прибита к земле, на дорожках непросыхающие лужи в вечных кругах от падающих капель. Дом казался стылым и промозглым, словно глубокой осенью – а ведь на дворе была только середина июля, по идее самое жаркое время в году. Черт знает что творится с погодой, никакого лета…
Впрочем, в библиотеке, где он сидел, холод совсем не ощущался. Наоборот, благодаря топившемуся столько дней подряд камину здесь было тепло, пожалуй, даже слишком тепло, и очень душно. Но человек, с удобством расположившийся в придвинутом к каминной решетке кресле, казалось, совсем не чувствовал жары и не открывал окон. Пушистый мохеровый плед в светло-и темно-коричневую клетку укрывал его колени, пламя, весело плясавшее на березовых поленьях, отбрасывало багровые отсветы на его лицо, отчего в полутьме библиотеки оно выглядело особенно бледным.
Человек сидел здесь, не вставая, уже несколько долгих часов, и, взглянув на него со стороны, можно было бы подумать, что он заснул, разнежившись в натопленной комнате. Но ничего подобного! Человек не спал и даже не дремал. Он работал, и работа эта – как всегда – требовала от него бесконечной собранности и наивысшего напряжения всех душевных сил, а полуприкрытые глаза лишь помогали сосредоточиться.
Как это уже нередко случалось, усиленная работа мысли привела к головной боли. И человек воспринял это как должное. Подобное состояние, похожее на тяжелый дурман, пограничное между сном и явью, было ему хорошо знакомо. Он привык относиться к нему как к неизбежной плате за успех своей работы. Так уж устроен этот мир, ничего не дается даром – и чужая жизнь, чужая молодость тем более…
Огонь в камине вспыхнул последним всполохом, прощальным аккордом музыки догоревших поленьев, и угас. Тотчас подкралась темнота, протянула к человеку руки, исподтишка взяла за горло, и он понял, что новой мысленной схватки, нового жаркого, хоть и безрезультатного спора с невидимым противником не избежать.
Кто-то мог бы назвать его воображаемого собеседника совестью, кто-то – нравственной стороной личности, существующей в каждом из нас, но сам человек предпочитал именовать это зыбкое непонятное «нечто» своим оппонентом. Человек боялся его и одновременно нуждался в нем. И если первый факт он не признал бы ни за что и никогда, то со вторым, пожалуй, готов был согласиться. Хотя для себя он определял это приблизительно так:
«Наши споры забавляют меня. И добавляют в мое дело еще большей остроты. Пожалуй, мне было бы скучно без этих разговоров…»
И потому каждый раз, когда был занят работой или еще только готовился к ней, он стремился уединиться в саду, в лесу или в той же библиотеке, с волнением ожидая прихода невидимого собеседника. Неважно, являлся ли тот в облике отца, изображенного на потемневшем от времени портрете над камином, или же в виде загадочного голоса, доносившегося неведомо откуда, или просто как слабый внутренний протест, еле слышный сквозь поток его собственных саркастических возражений, он все равно знал: их диалог будет долгим, аргументы весомыми, спор бурным и интересным, но бесполезным. Окончится он в любом случае его, человека, победой. Иначе не случалось еще ни разу – да и могло ли вообще быть иначе?
Голова болела все сильнее, и человек в кресле наконец-то пошевелился. Такая головная боль была верным знаком того, что собеседник его вот-вот появится, вот-вот заговорит. Отчего же сегодня он медлит?..
– Ты здесь? – нетерпеливо спросил человек, вглядываясь воспаленными глазами в полумрак.
И, видимо, ему что-то послышалось в тишине – нечто, похожее на еле различимый вздох.
– Значит, здесь, – удовлетворенно кивнул человек в кресле. – Почему же ты молчишь? Или не знаешь, что я только что начал новый проект? Тебе что, совсем не жалко его? Того, над кем я сейчас работаю?
– Если я скажу, что мне жаль его, как и всех остальных, – осторожный шепот, казалось, был не более чем дуновением ветра за окном или шорохом чуть вздрагивающих от сквозняка занавесок, – разве ты остановишься? Разве послушаешь меня?
Человек засмеялся. В голосе его, когда он вновь заговорил, явственно звучало самодовольство сытого кота, который только что вдоволь наигрался с мышкой, то отпуская ее, делая вид, что отпускает, но тотчас схватывая вновь, едва она попытается убежать.
– Ну, разумеется, нет! Не послушаюсь и не остановлюсь… Это хорошо, что ты наконец-то начинаешь понимать меня. Погоди, вот увидишь: ты станешь еще моим сторонником. Ты поймешь, что эти жалкие людишки не стоят того, чтобы их жалеть. И еще ты поймешь, что моя технология – величайшее, даже, может быть, самое главное открытие человечества…
Собеседник не отвечал. И тишина в комнате в этот миг стала густой, чернильной, почти осязаемой, с привкусом безысходности и страха. Головная боль сделалась почти невыносимой, но человека в кресле сейчас беспокоила не она, а непонятное молчание вечного противника. Его сегодняшний тихий голос и отсутствие возражений показались странными, подозрительными и даже словно бы угрожающими.
– Ты здесь? – снова тревожно спросил человек. И, не получив ответа, вдруг неожиданно для себя пожаловался: – Знаешь, я очень устал. Думаешь, это легко – каждый раз находить подходящую жертву, действовать по всем правилам и никого не допускать до постижения этих правил?.. Думаешь, просто вершить чужие судьбы по законам собственной справедливости?
– Так оставь их в покое, эти судьбы, – колыхнулся в комнате знакомый шепот. – Ты и правда устал. Отдохни.
– Ну не-е-ет, – упрямо, словно капризный ребенок, протянул человек. Он рад был услышать новые возражения, вновь ощутить азарт спора, из которого непременно выйдет победителем. – Отказаться от моего дела? Ни за что! Без него мне и жизнь будет не в радость!
– Ты противоречишь сам себе, – тихий голос доносился теперь откуда-то из-за массивного шкафа красного дерева, где на полках чуть виднелось в полутьме золотое тиснение на обложках старинных книг. – Ты нашел способ красть у других людей их жизнь. Их молодость, их здоровье, их успех, их богатство…
– Богатство мне не нужно! – перебил человек. – Ты же знаешь, деньги давно перестали быть для меня целью. Да никогда и не были. Они лишь средство, позволяющее мне существовать так, как я хочу!
– Пусть ты и не стремишься к богатству, – согласился невидимый оппонент. – Но это нисколько не оправдывает тебя. Ты силен, бодр и даже, можно сказать, молод лишь потому, что украл все это у других. У тех, кому оно принадлежало по праву. И сам говоришь, что взял это только для того, чтобы снова и снова красть чужие жизни!
– Это не кража, а возмездие, – человек издал что-то похожее на смешок. – Своеобразное наказание за грехи. Ты же знаешь, моя технология позволяет иметь дело лишь с теми, кто грешен.
– А ты мнишь себя Богом и берешь на себя право решать, кто в чем грешен и кто и за что должен быть наказан? – голос переместился теперь ближе к камину и звучал саркастично.
– Ну а если и так? – усмехнулся человек в кресле. – Если технология, которую я изобрел, действительно приблизила меня к богам?
– Тогда тебе стоило бы прежде всего научиться творить добро. Боги всегда справедливы. Они не только карают, но и награждают. Боги милосердны.
– Кто тебе сказал такую чушь?
– Это не чушь. На этом держится мир. Ты уже слишком много сделал зла, слишком много украл чужих жизней, их хватит тебе надолго. Пора задуматься о том, как искупить свою вину. Начни с того, что пожалей жертву, которую себе наметил. Отпусти его!
– Ишь, чего захотел! – снова усмехнулся человек. – Ну уж нет. Как раз этого, последнего, я тебе ни за что не уступлю. Этот проект будет особенным; я давно готовился к нему, давно его ждал… Предыдущий замысел был слишком прост, и жертва оказалась неинтересной: она почти не сопротивлялась. А этот… о, этот будет самым изысканным блюдом в моей трапезе! Если хочешь, десертом. Шоколадным суфле. Ванильным мороженым. Сырным фондю. Или, лучше даже, бокалом коньяка «Хеннесси». Ты же знаешь, как я люблю настоящий французский коньяк…
Тишина вновь сгустилась вокруг человека в кресле, но теперь она больше не пугала его. Голова вдруг почти перестала болеть, неудержимо потянуло в сон, и воображаемый противник больше не внушал страх. Человек поворошил угли в камине тяжелой старинной кочергой, слабые огоньки в золе осветили его склонившееся лицо. В последнем треске догорающих угольков ему послышался настойчивый шепот:
– И как же зовут твою новую жертву?
– Да какая тебе разница, право!
И, поглубже усаживаясь в свое низкое кресло, еще выше натягивая на себя уютный клетчатый плед, человек пробормотал уже совсем невнятно, погружаясь в глубины сна, который – он был уверен в этом – непременно принесет ему исцеление от головной боли и полное забвение нынешнего разговора:
– Я скажу тебе только, что у него сейчас в жизни все очень хорошо. Так хорошо, что это даже кажется ему неестественным… Ты часто упрекал меня в жестокости, но я совсем не жесток, я просто справедлив. Как боги… И даже где-то милосерден. Пусть он порадуется жизни напоследок. Пусть ощутит себя богачом, прежде чем начнет платить по счетам… Это и есть высшая, главная справедливость…
Ответа человек в кресле уже не слышал. Уронив голову на грудь, он тихо спал, освещаемый еле теплящимися огоньками догорающего камина.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая, в которой Виктор Волошин предчувствует, что посуда не всегда бьется к счастью
Тот, кого наметил своей жертвой человек в кресле у камина, разумеется, и понятия никакого не имел об этом странном разговоре. У него действительно все было хорошо. Однако не в том смысле, который навязывает телевизионная реклама, где непременными атрибутами счастья для мужчины средних лет служат жена с внешностью фотомодели, двое прелестных детишек и светящаяся здоровьем породистая собака, щенок которой стоит несколько тысяч долларов. Ни жены, ни детей, ни собаки у Виктора Волошина к тридцати шести годам не имелось. Впрочем, он в них и не нуждался. Он дорожил своей свободой, и его вполне устраивал образ жизни состоятельного холостяка, который он вел.
Виктор проснулся от того, что теплый солнечный луч, невесть каким путем ухитрившийся пробиться в комнату через жалюзи, ласково мазнул его по лицу. Волошин улыбнулся, открыл глаза и оглядел спальню. Вопроса «Где это я?», который на подсознательном уровне посещает в первые секунды большинство людей, просыпающихся вне дома, не возникло. Граница между сном и явью у него всегда была очень четкой и резкой. Да и небольшая уютная спальня в мягко-серых и фисташковых тонах, вся уставленная милыми безделушками, была хорошо ему знакома.
Он повернул голову вправо и вновь улыбнулся. Пытаясь спрятаться от назойливого луча солнца, Аллочка, не просыпаясь, отодвинулась в самый дальний угол широкой кровати и забавно морщилась во сне. Даже сейчас, при ярком дневном свете, ее лицо, лишенное всех этих женских косметических тайн, выглядело свежим и привлекательным. Светлые волосы как-то особенно красиво смотрелись на фоне зеленоватого шелка постельного белья и – Виктор знал это наверняка – на ощупь оказались бы такими же теплыми, как нахальный солнечный луч.
Однако Волошин не стал этого проверять. Он откинул простыню, заменявшую ему по причине жары одеяло, легким упругим движением соскочил с постели и с удовольствием потянулся. Дома он, возможно, сделал бы несколько гимнастических упражнений, но здесь, на небольшом пространстве девичьей спальни, среди сувенирных игрушек и расставленных повсюду композиций из сухих цветов, это было не слишком удобно. Впрочем, в отличие от большинства друзей и знакомых из «своего круга» Виктор не был помешан на спорте и здоровом образе жизни. Он почти не бывал в фитнес-клубах, не качался на тренажерах и посещал бассейн, теннисный корт и сауну исключительно ради собственного удовольствия. Но природа была к нему благосклонна, что Волошин лишний раз отметил, бросив довольный взгляд в зеркало стенного шкафа-купе. Фигура не заплыла жиром, на складки по бокам, именуемые на простонародном жаргоне крыльями, не было и намека, живот – ну практически – не был заметен. В общем, и на пляже показаться не стыдно, и никакие «качалки» не нужны. И если не обращать внимания на рост (сто семьдесят шесть сантиметров, конечно, маловато для современного мужчины), то можно быть вполне довольным собой.
Почувствовав его движение, Аллочка заворочалась в постели и сонно пробормотала:
– Сколько времени?
– Без четверти семь! – бодро отвечал он.
– Ой, еще так рано! Что же ты поднялся ни свет ни заря? Еще целый час можно спать…
– Нет, мне пора. Ты же знаешь, мне надо заехать домой переодеться. – Виктор уже направлялся в сторону ванной.
– Сварить тебе кофе?
– Ну конечно! Неужели ты хочешь, чтобы твой шеф пришел на работу злой и голодный?
С удовольствием подставив тело упругим прохладным струям, Волошин мельком подумал о том, что в общем-то зря заставил девушку вылезти из постели. Вчера они до полуночи засиделись в ресторане и легли поздно, а уснули, как водится, еще позже. И сейчас он прекрасно мог бы дать Аллочке еще немного поспать, а сам поехать завтракать домой или перекусить по дороге. Тем более что ему вовсе не нужно было появляться в офисе ровно в десять, как это требовалось от главного бухгалтера Комаровой. Но все-таки он снова применил свою власть и не испытал из-за этого никаких угрызений совести. В конце концов, она женщина и просто обязана заботиться о нем, если хочет, чтобы их встречи – милые, ненапряжные и вполне устраивающие обоих – и дальше повторялись с регулярностью приблизительно раза, изредка двух, в неделю.
Волошин знал, что Аллочке хотелось бы большего. Хотелось бы стать супругой шефа со всеми вытекающими из этого положения привилегиями. Или получить статус гражданской жены и перебраться в его шикарную двухэтажную квартиру. В крайнем случае хотя бы перевести их отношения на легальное положение и перестать скрываться от сослуживцев. Но самому Виктору все это было совершенно ни к чему. Три года назад, когда его фирма расширилась до такой степени, что возникла необходимость разделить должности финансового директора и главного бухгалтера, и одно из крупнейших столичных кадровых агентств прислало к нему соискательницу Комарову, Волошин сразу увидел, что эта молодая женщина может стать ему хорошим партнером не только по бизнесу, но и по отдыху. Однако не больше. Он дал это понять Аллочке на первом же собеседовании, и та полностью приняла его правила игры. Встречалась с ним по первому же его требованию в любое удобное ему время (ни разу за все три года он не услышал в ответ «Извини, но сегодня не могу, занята»), никогда ни о чем не просила, никогда в открытую ни словом не обмолвилась о своих планах на совместное будущее – так, лишь редкие намеки, настолько тонкие, что их вроде бы словно и не было. С Аллочкой он чувствовал себя комфортно, она неизменно была обворожительна и тактична и не мешала в его жизни ничему. Виктор существовал так, как ему нравилось, заводил параллельные интрижки, встречался и ездил в отпуск с кем хотел, безо всяких отчетов и обязательств. Волошина это вполне устраивало, но в то же время он чувствовал, что не может полностью доверять этой женщине в жизни, так, как доверяет ей в работе. Он догадывался, что Аллочка ведет свою хитрую политику, и постоянно ждал от нее подвоха. Забавлялся, наблюдая, с каким серьезным видом она штудирует статьи в женских журналах, рассказывающие о секретах обольщения мужчин, и был уверен, что ее поведение – лишь терпеливая и хорошо продуманная тактика. И находясь рядом с Аллочкой, постоянно помнил о том, что она только притворяется нежной и покорной, а на самом деле лишь ждет удобного момента, чтобы вцепиться ему в горло – точь-в-точь как конкуренты в бизнесе, да что там конкуренты, даже партнеры. Сейчас жизнь пошла такая, только чуть зазевайся – и сожрут…
Но пока Волошин был начеку и не позволял себе расслабляться, все выходило по его – и в бизнесе, и в отношениях с Аллочкой. И когда он, чисто вымытый и благоухающий гелем для душа с запахом лотоса и иланг-иланга, вышел из ванной и оделся, из кухни уже тянуло ароматом свежесмолотого кофе и поджаренного в тостере хлеба.
Уютное двухкомнатное гнездышко Аллочки находилось в Мневниках, на самом берегу Москвы-реки. До Гоголевского бульвара, где жил Волошин, отсюда рукой подать, если, конечно, не мешают пробки. Но в то раннее утро последней пятницы июля улицы были еще относительно свободны. Разве что в сторону области уже потянулись первые дачники, но их тоже пока ехало немного. Как любой автомобилист, Виктор знал, что с каждым часом число уезжающих из города на уик-энд начнет увеличиваться и к вечеру машины сольются в сплошной еле ползущий поток неимоверной густоты, который поредеет лишь к поздней ночи, чтобы возобновиться ранним утром в субботу… Как хорошо, что ему не надо сегодня ехать за город!
Минут через двадцать синий «Вольво XC90», краса и гордость Волошина, уже домчал хозяина к дому. Виктор оставил верного коня на закрепленном за ним месте стоянки, вошел в подъезд и приветливо поздоровался с консьержкой. Сегодня дежурила Евгения Михайловна – круглолицая, румяная и улыбчивая женщина лет шестидесяти. Волошин всегда с удовольствием перекидывался с ней парой слов и как-то даже признался, что, будь он посуевернее, считал бы утреннюю встречу с ней приметой удачного дня.
– Здравствуйте, Виктор Петрович, – улыбнулась в ответ консьержка, совершенно не замечая того, что жилец в такое время входит в дом, а не выходит из него. Этой женщине как-то удавалось быть приветливой и внимательной со всеми, но при этом оставаться на редкость тактичной и не совать нос в чужую интимную жизнь.
– Доброе утро, Евгения Михайловна, – отвечал тот. – Вы сегодня просто обворожительны! И это новое платье вам очень к лицу.
– Скажете тоже! – счастливо зарделась женщина. – Какое оно новое… Который год ношу. Просто надела первый раз за сезон. Наконец-то потеплело!
– И не говорите! Я уж думал, лето совсем отменили. Июль на исходе – и только-только жара началась…
Квартира встретила Виктора тишиной и прохладой – окна выходили не на солнечный бульвар, а на затененный деревьями двор, что в наступившую все-таки в этом году летнюю жару было незаменимым достоинством. Зимой, конечно, здесь иногда казалось мрачновато, но ведь на этот случай существуют лампы дневного света. Да Виктор почти и не бывал в своей квартире днем. Когда у тебя собственный крупный бизнес в недвижимости, рассиживаться дома некогда.
В разговорах с друзьями и подругами Волошин обычно именовал свое жилище «бедной хижиной», «скромной обителью» или «холостяцкой берлогой». Но в действительности он очень гордился своей квартирой, наверное, не меньше, чем автомобилем. В самом центре, в благоустроенном доме, два этажа, три спальни, столовая, гостиная, кабинет, огромный холл, простор-ная кухня, две ванные – совсем неплохо даже для владельца преуспевающей риелторской компании. Правда, мать, когда попадала сюда, всегда сокрушалась: «В таких хоромах, Витя, и один!» Но он не придавал особого значения ее словам, как и не чувствовал себя на этом просторе одиноко. По вечерам и в выходные у Волошина часто собирались друзья и знакомые. Некоторые из них оставались ночевать – для этой цели предназначались две гостевые комнаты наверху, которым потом, в далеком будущем, предстояло стать детскими. Уборкой занималась, разумеется, домработница, приходившая через день.
Подойдя к гардеробной, Виктор раздвинул створки и вдумчиво принялся изучать содержимое. Сегодня его ожидала очень важная встреча, и многое зависело даже от выбора костюма. Именно за этим занятием и застал его телефонный звонок.
«Мама», – понял Виктор, бросив быстрый взгляд на дисплей. Валентина Васильевна всегда звонила ему только домой или на работу – исключительно на городской телефон. Мобильной связи она принципиально не признавала, почему-то считая ее крайне вредной для здоровья.
– Да, мама, слушаю тебя, здравствуй!
– Доброе утро, Витя. Я тебя не разбудила?
– Ну что ты! Я уже давным-давно на ногах! – с готовностью признался Виктор.
– Я звонила пятнадцать минут назад, но никто не взял трубку, включился автоответчик.
– Да, я принимал душ. – Посвящать Валентину Васильевну в тонкости своих взаимоотношений с прекрасным полом Волошин не собирался. – Как твои дела, мама?
– Вот приехал бы и сам посмотрел, как наши дела, – отвечала она с мягким упреком. – Ведь ты уже три недели не был у нас в Привольном. Юру присылаешь, а сам не ездишь.
Виктору стало совестно. Неужели уже три недели? Ну да, действительно… Как же быстро летит время!
– Я обязательно приеду, мама, – заверил он. – Сегодня у меня важные переговоры… С итальянцами. А потом, если все получится, мы с ребятами решили сразу же после подписания контракта пойти в отпуск. И тогда я приеду. Обязательно. Честное пионерское.
Распрощался с мамой и заторопился в офис – до встречи с итальянцами оставалось не так уж много времени.
Переговоры прошли успешно, даже более успешно, чем предполагал Волошин. Он ожидал, что итальянцы будут мяться, тянуть время, искать, к чему бы придраться, – но господин Гвадалуччи, похожий на вырезанную из орехового дерева марионетку, сегодня донимал его вопросами не более получаса, после чего, переглянувшись с сопровождающими, вытащил из кармана пиджака стильную чернильную ручку и подмахнул документы. С этого момента одна из знаменитых итальянских фирм с музыкальным названием «Канцони» становилась арендатором особняка в центре Москвы, в Большом Гнездниковском переулке, площадью более трех тысяч квадратных метров. Этот контракт принес агентству недвижимости «АРК» почти два миллиона долларов в год – не так уж и плохо для одной сделки. Подфартило, можно сказать.
Последнее время ему, Виктору Волошину, действительно везло. Везло настолько, что это иногда его настораживало и даже пугало. Впрочем, такое ощущение лишь доказывало то, что был он человеком здравомыслящим, самокритичным, не склонным к ожиданию чуда и привыкшим рассчитывать в жизни только на себя.
Виктор любил повторять, что сделал себя сам, хотя, если быть до конца откровенным, это все-таки было некоторым преувеличением. В том, как многого он достиг, была заслуга не только его, но и его родителей. Волошин прекрасно отдавал себе отчет в том, что не смог бы ничего добиться без помощи отцовских денег и связей на старте, без того воспитания, которое ему дали. Он родился в семье крупного чиновника, был поздним и единственным ребенком – когда он появился на свет, его матери, Валентине Васильевне, уже минуло сорок два, а отец Петр Викторович полгода как отпраздновал пятидесятилетие. Как-то раз во время откровенного разговора Виктор поинтересовался у матери, почему они так поздно обзавелись ребенком. Валентина Васильевна нахмурилась, была явно недовольна вопросом и сначала попыталась отделаться ничего не значащим ответом: «Так получилось». Однако сын продолжал настаивать, и в конце концов мать рассказала, что они с отцом прожили в браке почти пятнадцать лет, прежде чем сумели произвести его на свет. Она уже думала, что бесплодна, и даже пыталась лечиться, но ты ведь сам знаешь, какая раньше была медицина… И получилось все только тогда, когда она, по совету соседки, сходила в храм на улице Димитрова и поставила свечу к иконе святых Иоакима и Анны, родителей Богородицы. Сделала она это тайком от супруга, тот, как всякий партийный деятель, был атеистом, да и сама она не слишком верила в успех, но к тому времени уже совершенно отчаялась, и вот, кто бы мог подумать – помогло…
Волошин часто размышлял о том, что ничего бы не достиг в жизни, будь у него иное воспитание. Действительно, в любой другой семье долгожданного и единственного сына заласкали бы и избаловали, вырастили маменькиным сынком, привыкшим к тому, что все его прихоти исполняются, а сам он не должен для этого даже пальцем пошевелить. Но в случае с Виктором – и он искренне считал это своим везением – все вышло иначе. И отец, бывший заместителем секретаря райкома, и мама, педагог с огромным стажем, обладали характерами сильными и твердыми, и баловать сына, потакая его капризам, были не склонны. «Мы растим из тебя настоящего мужчину!» – повторяли они. Витю специально отдали не в ту школу, где работала мать, чтобы ему не было поблажек, а в другую, очень приличную, бывшую на хорошем счету, с преподаванием ряда предметов на английском языке. Родители никогда не ходили к его учителям, кроме как на обязательные собрания, не задаривали преподавателей подарками и не выклянчивали для сына хорошего аттестата. Институт Виктору позволили выбрать самому, и в старших классах наняли ему репетиторов – но тех, кого отец отбирал сам, кто действительно давал знания и заставлял много заниматься, а не брал деньги только за то, что способствовал легкому поступлению. И Виктор гордился тем, что попал в Финансово-экономический и закончил его самостоятельно, без содействия родителей, как это было у многих студентов, его сокурсников, кому папы и мамы просто покупали отличные оценки.
После того как Виктор подрос и смог объективно взглянуть на свое детство, он понял, что жил значительно лучше, чем большинство его среднестатистических сверстников. Он учился в престижной спецшколе, семья обитала в просторной квартире в новом доме на Бронной, где у Вити была своя отдельная комната. Питались Волошины по тем временам вполне прилично, продукты покупались только на рынках да в райкомовских буфетах. У них имелись все признаки материального достатка эпохи развитого застоя, включая цветной телевизор «Рубин», холодильник «Розенлев», финскую стенку, стиральную машину и чешскую хрустальную люстру. Отца возила на работу черная «Волга», на ней же семья выезжала по своим делам, в гости или на дачу в Привольное. Но при этом в детстве Виктор никогда не чувствовал себя таким же, как его одноклассники по спецшколе. На то было две причины, и обе они так и остались для него необъяснимыми по сей день.
Первой была странная неприязнь родителей, почти ненависть, к так называемым «спекулянтам» – практически единственному источнику, из которого можно было добыть модные импортные вещи: одежду, диски, кассеты, жвачку и так далее. Виктору покупалось лишь то, что можно было «достать» в отечественных магазинах и через знакомых. И когда его приятели расхаживали в джинсах «Супер райфл» и «Леви Страус», импортных водолазках, батниках на кнопках и кроссовках «Адидас», он вынужден был носить польскую подделку под джинсы из «Детского мира» и отечественные кеды. В спецшколах ученики всегда обращали повышенное внимание на то, кто как одет, и оттого юный Волошин постоянно чувствовал свою пусть не ущербность, но все же неполноценность. Даже на выпускной вечер он пришел не в модных шмотках, а в сшитом у хорошего портного (того, который шил его отцу и доброй половине райкомовских работников) темно-сером костюме. Костюм сидел отлично и произвел впечатление на девочек, но в глубине души Витя все равно продолжал завидовать другим, фирменно прикинутым ребятам. Возможно, именно это подростковое переживание и породило в нем существовавший до сих пор излишний для мужчины интерес к одежде. Он уделял ей большое внимание, выбирал свои вещи очень тщательно, а оказавшись за границей, всегда находил время, чтобы посетить лучшие бутики и приобрести себе несколько обновок.
Второй его проблемой было непонятное пристрастие родителей к даче. Все приятели Вити обязательно ездили отдыхать семьей в разные интересные места – в Прибалтику, в Крым, на Кавказ, на Азовское море, в Карелию, в Ленинград, отправлялись в плавание по Волге на теплоходе, а кое-кто выбирался даже и за границу, например, в Болгарию, на Золотые Пески. Но Валентина Васильевна и Петр Викторович, казалось, напрочь были лишены охоты к перемене мест. Каждое лето они проводили исключительно на даче, в местечке с ностальгическим названием Привольное. Когда Витя еще был маленьким, им удалось купить там половину добротного бревенчатого дома с участком в десять соток, что родители считали невероятной удачей. К дому пристроили застекленную террасу, на участке разбили клумбы и грядки, и с мая по сентябрь упорно копали, сажали, пропалывали и собирали урожай. Ни о каком семейном отдыхе с выездами не могло быть и речи. Отец говорил о близости к земле, свежем воздухе и пении птиц, мать заявляла, что не может оставить без присмотра свои цветы и овощи.
Собственно, дело было совсем даже не в том, что Вите не нравилось на даче. Наоборот, он чувствовал себя там прекрасно, тем более что на лето в Привольное всегда съезжалась замечательная компания, в которую входил и лучший друг Сашка Варфоломеев, которого все звали Варфоломеем, и две классные девочки – черноволосая, сероглазая, острая на язык Ляля и тоненькая, стройная, как рябинка, белокурая Иришка. Обе они очень нравились Виктору, и он провел немало бессонных ночей, ворочаясь с боку на бок и все пытаясь понять – в которую же из них он все-таки влюблен? И, конечно, Витя с удовольствием проводил бы лето с ними, гонял бы на велосипеде, играл в «картошку» и в ножички, ходил купаться на озеро, собирал в лесу грибы и ягоды, а по вечерам сидел на бревнах около дома Портновых и слушал на кассетном магнитофоне «Аббу», «Бони М» и «Машину времени». Но каждое лето родители упорно отправляли его в пионерский лагерь, на две, а то и на три смены. И уже с первых школьных лет Волошина стало тошнить ото всех этих вожатых, отрядов, линеек, «Зарниц», костров, танцев, чередующихся с кино, и прочих атрибутов идеологически организованного детского отдыха. Каждую весну он умолял родителей поехать куда-нибудь отдыхать вместе или позволить ему остаться с ними на даче, но те были непреклонны. «Привыкай к самостоятельной жизни!» – говорил отец. А мать только спрашивала: «Тебе надоел этот лагерь под Москвой? Хорошо, в следующем году мы отправим тебя на море. Может быть, даже получится «Орленок» или «Артек». И получалось. И «Орленок», и «Артек», и даже международный лагерь для детей из соцстран в той же самой Болгарии. Это, конечно, было неплохо, но все равно совсем не то… Все детство, сколько себя помнил, Виктор отчаянно скучал по родителям. Он их почти совсем не видел – круглый год они работали, а отпуск проводили без него.