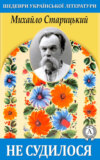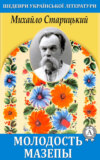Buch lesen: «Молодость Мазепы», Seite 32
LXIII
Марианну до того поразила, и поразила неприятно, эта безумно-восторженная встреча какой-то простенькой девчиной Мазепы, что она, чувствуя бессилие взять себя в руки, сослалась на неотложную необходимость разведать о чем-то в селении и сейчас же ушла из светлицы. И батюшка, и Сыч были тоже смущены всей этой неожиданностью, растерянно просили панну полковникову отдохнуть с дороги, но она, поблагодарив за гостеприимство, отказалась воспользоваться им, пока не покончит своих спешных дел.
Выходя из светлицы, Марианна бросила еще раз пытливый взгляд на Мазепу и заметила, что, при всем смущении, лицо его горело и сияло от счастья; стремительно вышла она в сени, на «ганок», и поспешила вскочить на своего коня, тут же наткнулась на двух девчат, стоявших под коморою: блондинка, убежавшая мгновенно из хаты, после пламенной встречи с Мазепой, плакала теперь на груди у брюнетки, но, очевидно, не от горя, а от избытка радости.
Марианна ударила «острогамы» своего коня и понеслась вскачь по селу, за ней помчалась вслед и команда. С напряженной энергией стала размещать ее панна по квартирам. Заехала потом в корчму, порасспросила кое-кого из знакомых, бывавших у ее батька-полковника, о настроении местных умов и о готовности их подняться дружно при первом кличе, и, наконец, сама не давая себе отчета, помчалась к берегу Днепра, будто бы за тем, чтобы осмотреть переправы, но, в сущности, проскакала лишь вдоль берега милю взад и вперед и возвратилась к священнику уже поздним вечером, как раз на вечерю.
Теперь уже она, овладев совершенно собой, была любезна, разговорчива, даже весела, с некоторым оттенком снисхождения и гордости, особенно с Мазепой. Последнего жег этот холод, он чувствовал весь яд его в своем сердце, сознавал и вину свою, но вместе с этой болью упреков играли в том же сердце тихая отрада и такое счастье, какого он не мог скрыть от глаз наблюдателей. Девчата, между тем, не садились вовсе за стол, а только прислуживали да ухаживали за гостями. Вельможной панне полковниковой была после вечери приготовлена в той же светлице постель, а Мазепа был помещен у дьячка; Сыч же, батюшка и обе девушки поместились в пекарне. Несмотря на усталость, на пышные подушки и перину, Марианне не спалось на новом месте, как она ни старалась забыться. Чувство обиды, едкое, зудящее, раздражало ей нервы и, несмотря на все усилия подавить его, упрямо росло и отгоняло сон от очей. Прежде всего, в ней подымался вопрос: кто эта девчина, проявившая себя так резко и так неожиданно, по крайней мере, для нее? В последнее время Мазепа рассказывал ей и о своей семье, и о многих случаях из своей прошлой жизни, но о ней, об этой девчине, он не заикнулся ни словом: сестра ли она его, родственница ли близкая, или кто? Конечно, нет! Самые близкие родичи, положим, могут броситься на шею от радости, но они тем не будут смущаться, а эта не знала, куда деть глаза от стыда, краснела все, а из-под опущенных ресниц так и лучился восторг… Притом, родичи Мазепы – известные паны из значной шляхты, а это совершенно простая девчина, пожалуй, даже из «поспильства», а если: так, то кто же она? Неужели его возлюбленная? Но это невероятно: как же сопоставить «эдукованого» лыцаря, знатного по происхождению шляхтича и невежественную, глупую девчину. Разве она была ему близкой? Ведь на этот счет молодежь неразборчива, но тогда как бы она осмелилась броситься при всех вельможному пану на шею? Нет! Устыдилась Марианна от такого предположения и почувствовала, как кровь бросилась ей в голову. Но кто же она? Может быть, только кажется; простенькой с виду, а пойди, поговори с ней… И эта загадка; напрягала до боли мозг Марианны, буравила ее сердце.
– Да, ну ее к «дядьку»! – почти вскрикивала Марианна, закрывая свое взволнованное лицо подушкой, словно прячась от этого неотступного образа, который стоял перед ней в темноте неразгаданным сфинксом. Жарко ли было в низком покое, или от возбуждения работало у панны сердце быстрее, но она почувствовала затрудненное дыхание и необычайную духоту. Марианна сбросила одеяло и села на кровати. Долго сидела она неподвижно, стараясь думать о судьбе своей родины, о наступающих моментах отдаленной борьбы, о своем дорогом отце, рисковавшем на этот раз жизнью… Но непослушные, своевольные мысли все возвращались к Мазепе, а глупое сердце все ныло да ныло.
– Э, что мне, наконец, этот Мазепа? Какое мне дело до его дивчат, – заговорила вслух Марианна, в сильном раздражении и досаде. – Что я ему за опекунша? Свое участие к нему, к его судьбе она объясняла сознанием, что в этой одаренной личности нашла преданного интересам Украины деятеля, и что такими личностями нужно дорожить всякому, кому дорого счастье родины. Если она сама рисковала даже собственной жизнью при поисках и освобождала из когтей Тамары Мазепу, то это опять-таки было из любви к родине… Если, наконец, она умеет ценить его душевные достоинства, его ум, его находчивость, отвагу, – то и тут нет ничего удивительного: истинно хорошему нельзя не сочувствовать, если этим хорошим наделено лицо, могущее сослужить для родины великую службу. – Но какое же дело мне до его дивчат? – повторяла она с горькой усмешкой, запрокинув назад голову, и не могла дать на этот вопрос решительного ответа… Только сердце ее учащенно билось при этом, а из ночной тьмы всплывал перед ней стройный, прекрасный образ и неотразимо устремлял на нее свои темные, полные ласки и неги глаза.
Под утро только уснула Марианна и проспала дольше обыкновенного. Когда она вышла в пекарню, то застала там Галину; хозяев и гостя уже не было.
Галина, растерявшись, хотела тоже убежать известить батюшку о приходе панны полковниковой и позвать Орысю, подать ей «сниданок», но Марианна ее остановила.
– Не беспокойся для меня, милая, – обратилась она к ней со снисходительной улыбкой, – я человек простой и сама достану из печи сниданок, а поболтать с тобой приятнее, чем со стариками.
– Как можно… я и ступить перед вельможной панной не умею.
– Ха! Нашла еще перед кем учиться ступать! Я не польская панночка, что сидит сложа руки, да пальцами перебирает, а я и всякую «хлопьячу» работу делаю: и цепом махать умею, шаблей «орудувать», да и из мушкета маху не дам, так передо мной ступай всей пятой, а не на цыпочках.
– Господи! – всплеснула руками Галина, – из мушкета умеет панна палить. Я бы «перелякалась» на смерть.
– Не гаразд. Не те времена, чтобы «лякатыся» – заметила строго Марианна, – теперь всякий должен уметь владеть оружием, теперь и дивчата, и дети должны быть готовы броситься в бой за свою неньку Украйну.
– Отчего? – изумилась как-то особенно наивно Галина, раскрыв широко свои задумчивые, полные особенной прелести глаза.
Марианна посмотрела на нее с сожалением, но не могла не сознаться в глубине души, что девчина была необычайно привлекательна своей детской наружностью, что даже простоватая наивность шла к ней.
– Да, – поправилась после небольшой паузы Галина, – дид мне говорил, что ляхи нас мучили, и что против них все бились.
– Ну вот, то были ляхи одни, а теперь и ляхи, и татаре, и свои, что разорвали на две половины Украину.
– Ой, лелечко! – всплеснула руками Галина, – как разорвали, чем разорвали?
Марианна остановила на ней полный изумления взгляд и решила в уме, что она дура.
– Нечистый их знает, – засмеялась она весело, – давай-ка лучше рогач. Что готовили?
– Разные галушечки с салом… только я не попущу панну… – бросилась Галина к печи и, вытянув горшок, наполнила из него миску вкусно приготовленным кушаньем.
– Я еще после галушечек выйму и «лемищаных» вареников, томятся вон в рыночке, залитые сметаной и маслом, – все смелей и смелей становилась Галина, видя простое и приветливое обращение с собой важной панны.
– Ну, вот примемся и за вареники, – приходила в более хорошее расположение духа и Марианна, – а ты кто будешь, дочка или родичка батюшки?
– Нет, я внука Сыча.
– Сыча? – переспросила озабоченно Марианна.
– Да, из степи, далеко отсюда.
– С правого берега?
– Не знаю, с какого, а только далеко… три дня ехали…
– И все время сидели в степи? – допрашивала Марианна.
– Все время, одни, и людей не видели, только Немота да баба.
– А как же с Мазепой познакомились? – спросила неожиданно Марианна, бросив на Галину проницательный взгляд.
При этом вопросе Галина вспыхнула вся и, несколько смешавшись, ответила:
– На том же хуторе, когда конь привез его мертвым, и мы его лечили с дидом.
– Так его конь понес, сбросил, разбил?
– Нет, он был привязан веревками к коню… Какие-то лиходеи привязали, веревки порезали его тело… Господи, какой это был ужас и какое горе! – У Галины при одном воспоминании об этом печальном событии наполнились слезами глаза.
– Вон оно что! – протянула Марианна и замолчала.
Она поняла, что эта наивная девушка спасла Мазепе жизнь и, спасая, отдала всю свою, без остатка, душу этому спасенному от смерти герою… Все это говорили ясно – и трепетавший от волнения голос, и самоотверженное выражение кроткого личика, и теплившиеся тихим счастьем глаза. У Марианны дрогнуло сердце и от чувства сострадания к этому ребенку, и от какой-то жгучей обиды.
«А он же что? – завихрились в ее голове мысли, – платит ли ей такой же пылкой взаимностью, или, одержимый чувством благодарности, относится лишь со снисхождением к степнячке? Впрочем… пусть их! Стоит носиться с болячкой, да еще в такое время! Раздавить ее, разбить одним махом и баста! Одно только не по-шляхетски, – почему же он, заверяя меня в своей преданности и дружбе, скрыл от меня такой крупный случай в своей жизни? И это дикое зверство над ним кем учинено и за что? И эта степная спасительница?… Все это чересчур важно, чтоб позволительно было скрыть от друга… Значит, мой лыцарь не искренен, а я, кажется, имела право на эту искренность».
Ей так стало больно и горько, что она не могла продолжать больше «снидать» и, отказавшись от вареников, ушла из пекарни в светлицу: там застала она Орысю, убиравшую постель, и попросила приказать оседлать ей коня.
– Так скоро уезжает вельможная панна? – изумилась та. – А мой пан отец рассчитывал, что панна полковникова погостит у нас, и пан гость говорил, что панна проводит его за Днепр.
– За Днепр я не имею намерения и ехать, – ответила свысока, взволнованным голосом Марианна, – а что касается батюшки, то мне было очень приятно остаться у него, но, к сожалению, не то время…
Орыся велела исполнить приказание панны Марианны, а последняя, оставшись в светлице одна, заходила быстро из угла в угол, чтоб разбить хоть телесной усталостью разыгравшуюся душевную бурю; мысли ее, потеряв логическое течение, кружились беспорядочным роем, воскрешая в ее памяти то ту, то другую картину из недавнего прошлого: то мелькнула перед ней картина нападения кабана и появление в этот страшный момент неожиданного спасителя, статного, пышного лыцаря, оставившего сразу своей бесстрашной отвагой неизгладимое впечатление. Да, это впечатление было жгучее и превратилось потом в какую-то истому, нарушившую ее душевный покой. Потом вспомнилось ей чувство бурной радости при второй встрече, чувство, удовлетворенное вполне более близким знакомством с душевными качествами ее спасителя, а дальше – бесконечный ряд сменявшихся сердечных тревог и мучений, новые радости, новые дружеские излияния, новые счастливые минуты, и вдруг такое разочарование!…
В эту минуту дверь отворилась, и на пороге ее явился парубок, лицо которого показалось Марианне знакомым. Она посмотрела и узнала в нем того самого казака, который приезжал к ним в замок.
– Вельможная панна, – произнес, низко кланяясь, Остап, – я до пана ротмистра по важному делу.
– Я не знаю, где этот пан ротмистр, – ответила Марианна по возможности спокойно, – ты, казаче, приезжал к нам недавно?
– Приезжал к его милости пану полковнику и вельможную панну с ротмистром Мазепой там видел.
– А, помню, – уронила Марианна, смутившись снова невольно. – А что такое случилось? – спросила она, чтобы замять неловкость.
– А вот что, панно, – ступил шага два вперед Остап и, понизив голос, продолжал таинственно: – Пришел строгий наказ от его мосци гетмана Бруховецкого, чтоб поставили прибрежные села по Днепру «варту», значит; чтоб с того берега никого сюда не пропускали, а если кто с этого берега вздумает на тот бок переправляться, так чтоб каждого забивали в колодки и отправляли к воеводе. Да чтоб «допыльнувалы», не станет ли где на правый берег уходить молодой шляхтич с молодой панной, так чтоб их немедленно препроводить со скрученными руками к нему самому, к гетману.
– Ага, вот на что раскидает он сети, – на крупную рыбу, – всполошилась она, убежденная вполне, что это на нее и на Мазепу устраивается облава. – Ну, а как поселяне, исполнят ли приказания своего гетмана беспрекословно или не выдадут своих друзей?
– За своих поселян я ручаюсь, – промолвил уверенно Остап, встряхнув молодцевато чуприной, – но здесь остаются пока москали для разъездов, так за них поручиться нельзя.
– Значит, нужно быть осторожнее и пересидеть некоторое время, – произнесла медленно, отвечая на свое течение мыслей, Марианна. – Слушай, казаче, – не найдется ли кто в вашем селе, чтобы знал потайные через топи тропы к нашей крепостце?
– Да я сам их знаю и в последний раз пробрался к их милости «навпростець».
– Так ты меня «зараз» можешь провесть?
– С радостью, вельможная панно!
– Вот спасибо! Найди же Мазепу, – он, верно, у дьяка, или где-либо тут, поблизу, предупреди его, чтоб был осторожен, и сам приготовься к отъезду.
Едва вышел Остап за ворота, как в светлицу вошли батюшка, Сыч и Мазепа; они разминулись с Остапом и не знали еще о налетевшей опасности.
Батюшка, огорченный известием, что вельможная панна уезжает сейчас, стоял убитый, приписывая этот внезапный отъезд своему неуменью принять такую дорогую гостью и невозможности дать ей удобства.
Мазепа тоже был смущен и растерян этим нежданным решением Марианны, сознавая в глубине души, что он виноват перед этой редкой по красоте, по уму и по рыцарским доблестям девушкой, – и виноват страшно: это сознание вонзалось в его сердце укором и угнетало его самого до отчаяния.
На просьбы Мазепы исполнить данное обещание Марианна отвечала сухо, что обстоятельства изменились, и что благоразумие велит им всем быть осторожнее, так как погоня Тамары уже здесь; она советовала Мазепе пообождать с переправой на правую сторону Днепра, пока не удалится от села расставленная гетманом московская стража; говорила, что она оставит ему для прикрытия большую часть команды, имея в виду, что сама отправится к себе по таким непролазным местам, куда враг не покажет и носа.
На Мазепу все это – и настигшая их погоня, и расставленная ему западня, и предлагаемая помощь, – не произвело, видимо, никакого впечатления: он слушал советы и предостережения совершенно равнодушно, подавленный заслуженной холодностью своего бывшего друга.
Вошедшая в это время в светлицу Галина смутила еще больше Мазепу; но глаза их встретились и озарились счастьем.
Марианна обратилась к батюшке и стала уверять его горячо, что она так ценит его ласковый, сердечный прием, что считала бы за счастье пробыть несколько дней в этом уютном уголке, среди такой душевной семьи, но, к сожалению, ее гонят отсюда новые беды, против которых нужно всем принять неотложные меры.
LXIV
– Мой рыцарский долг, – произнес Мазепа, – велит… и я не думаю, чтоб панна отказала мне в чести и счастьи проводить ее обратно.
Галина при этом предложении побледнела, раскрыв широко свои лучистые, блеснувшие влагой глаза.
– Благодарю сердечно пана Мазепу за предложенную мне рыцарскую услугу, – сказала почтительно, но с иронией в тоне, Марианна, – за его готовность быть моим защитником в пути, но я должна лишить себя этого удовольствия: пан забывает, что у него есть еще высший долг, – привезти поскорей сведения своему гетману и подвинуть его на решительный шаг. Меня же проведет знающий лучше потайные тропы здешний житель Остап.
Мазепа закусил от досады губу и замолчал. Он почувствовал в словах Марианны яд презрения, и сердце у него сжалось от боли.
– Не откажите, не опечальте меня, старика, досточтимая пани, славного защитника нашего дщерь, – соизволь хоть оттрапезовать с нами, – кланялся между тем низко, придерживая у груди подрясник рукой, растроганный батюшка.
– Видит Бог, – ответила с чувством Марианна, – как мне дороги ваши ласки и гостеприимство, но, простите меня, – опасность слишком велика и каждая минута дорога.
Батюшка, сознавая правоту ее слов, развел только руками и засуетился с Орысей, стараясь уложить на дорогу дорогой гостье побольше пирогов и кнышей. Сыч со своей внукой Галиной тоже вышел помочь им.
– Панна Марианна, – отозвался тогда изменившимся от внутренней боли голосом Мазепа, сделав по направлению к ней несколько неверных шагов. – Я не знаю чем… пусть и виновен… но кара жестока, не по силам…
– О какой каре говорит пан? – подняла величаво голову и скользнула по Мазепе холодным, недоумевающим взглядом.
– Разруби это сердце ножом, – захлебнулся словом Мазепа и побледнел, – и увидишь, панно, что оно полно признательности к тебе за спасение, оно полно чувства высокой дружбы…
У Марианны шевельнулся, было, на миг горячий порыв к своему другу, но она сдержала его и прервала излияния Мазепы иронической фразой:
– Пану не к чему наполнять признательностью до краев свое сердце, пан спас от смерти меня, а я спасла пана, – мы только поквитовались в услугах! А теперь пожелаем друг другу счастливого пути, пожелаем исполнить долг наш! – и она, пожав убитому ротмистру руку, гордо вышла из светлицы на «ганок»…
Во время суеты и последних минут прощанья с Марианной Мазепа не мог себе дать отчета в той буре нахлынувших чувств, которая ошеломила, оглушила его до невменяемости, и стоял он каким-то камнем, и двигался автоматически, и бросался даже поддержать стремя дорогой гостье, лишь по усвоенной светской привычке. Но когда пышная панна с командой своей выехала за ворота, а домашние вышли тоже проводить ее, и дворик совсем опустел, тогда Мазепа начал понемногу приходить в себя и ощущать сознательно свои страданья. Все более существенные удары и невзгоды, слетевшие снова на его голову, были пока заглушены одним криком души, почуявшей невыносимую обиду, и обиду, нанесенную дорогим другом, спасшим ему жизнь. В чем состояла эта обида, Мазепа не мог еще уяснить себе, а только чувствовал, что яд ее отравляет ему существование в эту минуту, да так, что ему тяжело даже быть среди людей и скрывать от них свое настроение. Потому-то Мазепа и поспешил уйти через садик в хату дьяка; здесь, в полутьме и уединении, ему показалось легче: всполошенный, беспорядочный рой его мыслей стал мало-помалу улегаться и принимать логическое течение; но внутренние боли не только не уменьшились, но обострялись еще сильней… – Да, обида, оскорбление! Он чувствовал ее лезвие в груди, оно проникало до сердца и заставляло его вздрагивать конвульсивно. – Но что она сказала, чем оскорбила – Мазепа припоминал, искал это слово, но не находил… Действительно, такого обидного слова, кажется, не было; но что же было такое, что так его поразило жестоко! А вот что: равнодушие и холодность! Да, она этой убийственной холодностью, гордой и недоступной, отравила ему и радость, и счастье, и все существование… О, этот удар жесток, страшно жесток! – вскрикнул Мазепа. – «За что же, за что такой удар?» – стучал ему в виски роковой вопрос и вонзался тупой иглой в сердце. Как она была ласкова, обворожительна даже в обращении, каким теплым огнем светились ему эти орлиные очи, сколько дружбы и беззаветной преданности сказывалось в каждом ее слове, в каждом движении?… Что дружба? Она спасла ему жизнь, да мало того, что спасла, а своей жизнью рисковала самоотверженно, – и все это разбито, сметено, отнято у него с презрительным смехом, и он сам брошен ограбленным среди дороги… За что же, за что? Какую вину он совершил? Неужели безумная, детская радость Галины так ее поразила? Что же в ней она могла заподозрить? Любовь? А хоть бы и так, то что ей? Неужели детская, чистая привязанность этой прозрачной души могла неприятно поразить Марианну, такую отзывчивую на людские страдания? Но если бы даже и так, то при чем же он, почему на него одного брошена беспощадной рукой эта кара? В чем же суть? Значит, панне не нравится, чтобы кто-либо любил Мазепу? Значит, она ревнует?!
Напавши на такое толкование ее гнева, Мазепа со всей стремительностью своего темперамента отдался разрешению этого вопроса; теперь уже чувство испытываемой им боли стало ослабевать и неметь, заменяясь лишь жгучим раздражением. Да, это ревность – бесспорно и непреложно! Оттого-то отразилось и на нем ее жало. Непризнанная любовь прячет от людей свое горе, изливает его в уединении в слезах, а не бросается вселюдно в объятия… Только одна упроченная взаимность дает на них право: значит, и он, Мазепа, любит Галину, значит, он дал ей право на эти объятия! Вот что обидело Марианну и заставило ее так жестоко поступить с ним… Но если она ревнует, то, значит, любит?
Это слово заставило затрепетать сердце Мазепы и гордостью, и радостью, но вместе с тем и какой-то скрытой тоской; чувство едкой обиды вдруг совсем разрешилось и преобразило мрачное настроение его духа в жизнерадостное, победное. Любит! Какое счастье! Ведь другой такой панны и по величавой красе, и по бессчетным достоинствам ее могучей души – нет в Украине, всякому лыцарю за честь и за гордость ее внимание, а сердечная привязанность – за великую радость… И вдруг он, Мазепа, оказался ее избранником.
Разгоревшись от охватившего его самодовольного чувства, приятно щекотавшего его самолюбие, Мазепа стал усиленно ходить по крошечной хатке, предаваясь не мыслям, а сладостным ощущениям, волновавшим какой-то отрадой его кровь: теперь ему, напротив, желалось размыкать в широкой степи, в удалой борьбе разыгравшуюся от радости силу, а не сидеть одиноко в этой темной и душной клетке…
– Да, любит! – повторил он, отбрасывая назад свою чуприну – И чем больше любит, тем сильней могла и отомстить своему «зрадныку», но при этом обида уже не в обиду, а в ласку, в отраду.
– А он же как? Любит ли он ее, эту дивную героиню? – задал себе Мазепа вопрос, и остановился… Улегшиеся было в приятном затишье мятежные мысли снова всполошились тревожно… Конечно, он чувствует в своем сердце к ней глубокую признательность за ее самоотвержение, он преклоняется перед доблестями ее души, он ее высоко ценит, как союзницу в деле спасения родины… Но любит ли, «кохае» ли, вот что?… Но, если бы не любил, то почему же ему было бы больно, невыносимо больно от ее холодности? Конечно, и при дружбе – потеря дружеских отношений тяжела; но тут – так ли? Уж не любит ли и он безумно Марианну? А Галина? А ее беззаветная любовь? – Сердце у него сжалось от боли и что-то сдавило ему горло… – Нет, разбить жизнь этому ангелу – святотатство, кощунство над всем, что есть в мире прекрасного, чистого и святого… Но, откуда же он заключил, что Галина его любит сознательной, неугасимой любовью, которой исход – или взаимное счастье, или могила? – Снова прокрадывалось ему в сердце сомнение… Детскую привязанность невинного, не знающего жизни ребенка нельзя еще считать за «кохання». Мазепа, наконец, так запутался в этих вопросах и сомнениях, что почувствовал просто нравственную усталость, и, не пожелав больше копаться в своей наболевшей душе, направился прямо к батюшке.
Там все были встревожены его отсутствием, особенно ввиду сообщенных Остапом грозных известий, а потому и обрадовались Мазепе… А Галина… да как же могло родиться сомнение, что она его не «кохае», не любит? – Ой, любит, беззаветно любит! – зазвенела струна в сердце Мазепы, и вспыхнуло оно таким счастьем, такой радостью, перед которой растаяли все перенесенные им страдания и тревоги, уносясь куда-то мутным туманом… Мазепа только чувствовал, что в каждом ударе его сердца звучит отрада!
Проверивши показания Остапа, все убедились, что переезжать Днепр было теперь не только опасно, а прямо безумно, а потому и Мазепа, и Сыч решились пересидеть у батюшки, пока не дадут им знать поставленные лазутчики, что московская стража удалилась. Галина была в восторге от этого и благодарила Бога в душе за счастье, ниспосланное ей в награду за долгое, мучительное терпение: ведь если бы Днепр был свободен, то Мазепа уехал бы на другой день к Дорошенко, а теперь нагрянувшая беда задержит его в этом уголке и продлит ей блаженство… Про опасность от этой беды она, опьяненная радостью, и не думала… Да и все, кажется, охвачены были настолько счастливой минутой, что и не думали о завтрашнем дне… и время понеслось в этом счастливом, крохотном уголке какой-то гармонической, тихой волной, приносившей с каждой струей старикам утешение, а молодежи новые звуки радостной песни любви…
Когда за «сниданком» или «вечерею» Мазепа рассказывал всем о своих приключениях за время разлуки с Сычом, а особенно о несчастьях, случившихся с ним в последнее время, то глаза Галины не отрывались от его очей и, сообразно ходу рассказа, то наполнялись слезами, то загорались радостью; она неподвижно и молчаливо сидела, вся поглощенная его рассказом, благоговея при созерцании боготворимого ею лыцаря… Мазепа тоже не мог оторваться от этого дивного, дышавшего неизъяснимой прелестью личика, которое с каждым днем хорошело и расцветало. Полное чистосердечие этой неиспорченной души, прозрачной в своих движениях и порывах, чистой в своих побуждениях, светившейся огнем святой, беззаветной любви, – возбуждало у Мазепы трогательное чувство, умиляло его, приносило высокое наслаждение гармонией бытия; очаровательный образ этого кроткого ребенка запечатлевался в его сердце неизгладимыми чертами, таким блаженством наделяя его, какое примиряет человека со всеми невзгодами и скорбями жизни.
Когда же старики уходили по хозяйским и другим делам из светлицы, а Орыся также убегала на свидание с возвратившимся Остапом, то Мазепа с Галиной оставались одни, и тогда еще живей и счастливей происходил обмен их мыслей и чувств, теплей становилась беседа, и ярче светились глаза; даже застенчивая Галина преображалась и начинала сама своим серебристым голоском передавать своему другу пережитые ею страдания. В этих дружеских беседах, которые с каждым днем становились непринужденнее, Мазепа с восторгом открывал новые и новые богатства ее души и ума: последний, при всем убожестве знаний, обнаруживал большие дарования и память, и наблюдательность, и гибкость в усвоении всякого рода понятий. Мазепа часто в этих беседах касался и современных событий, объясняя Галине их значение и открывая перед ней перспективы будущего, к которому должна бы стремиться душа каждого верного сына Украины. Галина слушала с жадностью эти сообщения и проникалась ими всецело: чего она не могла сразу понять своим разумом, то чуяла сердцем и откликалась им на всякий призыв своего друга.
В таком чистом, как жертвенный огонь, упоении бежали счастливые дни; сладкое, нежащее душу забытье отметало от Мазепы и злобу дня, и горечь разрыва с Марианной, и предстоящие новые бури. Но вот жизнь снова дохнула на них своими тревогами и нарушила их дремавший покой.
Раз, под вечер, когда они ворковали вдвоем, и Галина передавала Мазепе о той безысходной тоске, что охватывала ее, особенно в длинные ночи, тоске, изводившей ее невыносимой болью по нем, по ее исчезнувшем друге, вошла к ним на минуту Орыся и объявила радостно, что московская стража снялась со своих бивуаков и начала подвигаться вверх по Днепру и что вскоре, быть может и завтра, можно будет переправиться на ту сторону, так как здесь останутся «на варти» свои верные и преданные люди.
Это известие, вместо радости скорого избавления от неприятельской осады, принесло и Мазепе, и Галине неожиданное горе, поразившее их особенно в первую минуту резкой, чувствительной болью. Завтра, быть может, свобода! Но неволя – их безмятежный рай, а свобода – разлука со всеми ее бичами, тревогой, тоской и отчаянием!
Долго они молчали, пришибленные этой новостью, будившей их от волшебного забытья и возвращавшей к неумолимой грозной действительности.
– Ой, лелечки! Ой, Боженьку мой! – застонала, наконец, тихо Галина, словно причитывая над умирающим счастьем, улетавшим снова от них куда-то в безвестную даль, – ты уедешь… Ты «зныкнеш» с очей моих, и снова настанет для меня ночь, долгая, беспросветная, да с такой тоской! Ox! – сжала она свои руки у сердца, словно чувствуя уже ее когти, и устремляла испуганные до ужаса глаза на Мазепу.
– Радость моя, зиронька моя ясная, – взял ее тихо за руки Мазепа и почувствовал, как в его сердце словно оборвалось что-то и наполнило горячей струей ему грудь, – что же опечалилась, «зажурылась»? Ведь разлучимся мы не на веки, – я только побываю у нашего гетмана, передам ему все и наведаюсь к вам сейчас же на хутор.
– Нет, нет, не отпустит он тебя скоро, не отпустит, – заломила она свои руки, и чистые, как утренняя роса, слезы покатились жемчугом по ее побледневшим щекам… – Никто тебя не отпустит, никто, – заголосила она тихо, как поет умирающим звуком надорванная струна, – всякий тебя держит, от себя не пускает: и друг, и недруг… всякий желает отнять у меня… Ой, какая ж это мука!
– Господь с тобой, голубка моя, горличка моя тихая, – утешал он ее дрожащим растроганным голосом, – ты напрасно рвешь свое сердце, ты напрасно роняешь слезу… Никому я не нужен… только враги уцепились бы за меня когтями, а друзья – все они здесь, в тебе одной, моей зироньке ясной, посланной Богом.
Эти ласковые, дышавшие искренним чувством слова не отразились, однако, счастливой улыбкой на опечаленном личике девчины; ее горе было так велико, что заглушало всякую радость.
– Соколе мой, орле сизый, – продолжала она стонущим от неудержимой боли голосом, – ой, когда б знал ты, как тяжело без тебя, как сиротливо, как больно! Все ты мне на этом свете, все! – И батько, и ненька, и друг, и брат, и весь мир! Пока я тебя не знала, я и не помнила ничего: жила ли и радовалась ли чему, – все забыла! А как увидела тебя, так словно солнце блеснуло на меня и заглянуло лаской мне в сердце. Все осветилось, заблестело кругом… повеяло теплом… Ах, как хорошо мне стало, как хорошо! День настал, счастье заиграло, и радость зазвенела вот здесь, словно песня, словно песня…
– Ангел мой, дытынка моя родная! – шептал очарованный этим признаньем Мазепа, чувствуя, как неизведанное еще горячее, непорочное счастье подымает его на своих радужных крыльях куда-то в лазурную высь.