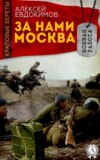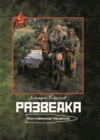Buch lesen: «Летом сорок второго»
© Калашников М.А., 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Глава 1
Блеск натертой меди сыпал искры, играл лучами. Даже когда летняя духота и ставни снаружи затворены наглухо, духовая труба светится в полумраке хаты, ловит сдавленный, пролезший в щель меж оконных наличников солнечный подарок. Она и еще старая икона с ризами медной фольги освещают жилище. Доска в иконе потемнела, лик почти не виден, но перед Пасхой хозяйка снимала ее с покута1, освобождала из-под стекла и чистила ризы от зеленых пятен ржави, натирала толченым мелом и бархоткой.
Тамара, старшая дочь хозяйки, смотрела на пучок света, ухваченный цепкой медью, любовно изучала плавный изгиб раструба, мундштук, клапаны. Отец ее играет в оркестре. Десяток инструментов, где девять человек раздувают щеки, а десятый, с толстым барабаном на груди, надувает их из солидарности с остальными. Каждый вечер субботы и по праздникам вальсы с маршами разносились в горсаду Белогорья.
Тамара и сегодня с нетерпением ждала вечера. Родители искупают детей, приведут в порядок себя: отец наденет купленный четыре года назад черный костюм и галстук, а мать – платье с круглым белоснежным воротником и легкие босоножки. Старший брат Виктор отделится от семьи еще на подходе к горсаду и убежит с погодками курить, спрятавшись за углом райисполкома. Мать будет калякать с подружками, придерживая руками свой беременный живот. Трехлетняя Зоя, держа ее за подол, наконец оторвется от него и станет ловить дразнящего ее Борю. Тамара же будет стоять, обнявшись с Антониной, и обе они не оторвут глаз от отца, выдувающего из «золотой» трубы басовые партии. А в перерыве между игрой отец спустится с деревянного помоста и купит всем по стакану фруктовой воды и мороженому.
Горсад и центр села клокотали праздничным приготовлением – районная выставка народного хозяйства. Стенды вдоль забора МТС, загоны и клетки для скотины. Напротив Дома Советов, рядом со сценой для духового оркестра, сколочена трибуна. У пивной бочки жмутся мужички, а бабы на обочинах развлекают друг друга сплетнями.
Ближе к вечеру – народу теснее. Тамара под руку с Антониной брела вдоль стендов. На фанерном щите пришпилен сноп ранней пшеницы, фотографии с прошлогодней уборочной, техника, отснятая крупным планом. Следом вереница загородок: рекордсменка удоя Зорька из колхоза «Путь Ленина»; чистые и расчесанные овцы из Саприно; свиноматка величиною в полугодовалого теленка – достояние колхоза «Имени XVIII партсъезда». Дегустационные столы: бруски нежно-розового сала, только что вынутого из ледника и еще не успевшего размякнуть в предвечерней жаре, запотевшие стаканы с молоком от той самой Зорьки, тающие во рту белые булки, несущие запахи и ароматы, пропитавшие хлебопекарню.
Чуть в стороне – торговые ряды. Много местных, но есть и пришлые. Вон дуванские торговки с другого берега Дона. Их легко отличить по ярким пучкам редиски и свежей зелени. Левый донской берег песчаный, там эта редиска растет лучше, чем на белогорских мелках, только поливать не ленись. Но на одной зелени в прибыли не будешь, и несут дуванские хозяйки на рынок творог, сметану, масло. Хоть и полно этого добра в Белогорье, а все же партийная верхушка здесь внушительней, чем в маленькой Дуванке, и расходится молочная продукция по рукам не колхозного, а служащего класса.
Дама увесистая и заметная, прохаживаясь вдоль рядов и изредка поправляя свою высокую прическу, бросает между прочим:
– Двадцать пять лет при Советской власти живем, а со спекуляцией никак не расстанемся.
Торговки хмурятся, но не отвечают, понимая, что связываться – себе дороже. И лишь одна старушка лет семидесяти отвечает:
– Это я-то спекулянтка? Ах ты, чертова свинья! Да я сама с огорода не вылезаю, все это моим горбом выращено! С рассвету до закату солнышко по темечку перекатываю – в поле да в огороде. Свое продаю, не краденое, не перекупленное!
Внушительных размеров матрона удаляется, не обращая внимания на летящие ей в спину проклятия, а соседки по прилавку шикают на старушку:
– Тише-тише, тетка Ганна! Не трогай ты ее, пускай идет себе.
Кто-то из белогорских баб, придя на крик, узнает в старушке давнюю товарку:
– Чего расшумелась, богоризка? Привет, что ли.
Та, повернув голову, на минуту сощурила глаза и тут же признала:
– И тебе не хворать, пайдуныха!
С давних пор прозвали дуванцы белогорцев пайдунами, а те своих соседей – богоризами. Что значит первое прозвище, теперь и сами дуванцы не вспомнят, а вот второе, по легенде, возникло от выходки одного из уроженцев Дуванки, спьяну всадившего в икону нож.
– Давнехонько не видались… почитай, годков семь или восемь, – сожалеет белогорская баба.
– Да где-то столько, как у нас церкву развалили, так и перестала ты к нам на престол ходить.
– Расскажи, как добралась. На себе, что ль, сумки-то тащила?
– Внук у меня, помощник Федюшка.
– А где ж он? Поглядеть бы. На тебя ли похож?
– Старым – старое, молодым – молодое. С хлопцами закружился, на стрелков, что ли, пошли. Уговорились с ним у парома встренуться. Коль я первая приду, так его ждать стану, ну, а если он рано отстреляется, так меня подождет. Да я и сама дойду. Расторговалась почти, теперь налегке.
Большая часть молодежи собралась на лугу, за крайними белогорскими огородами. Ворошиловские стрелки, гэтэошники и прочие, без особых отличий – все строились в очередь на стрельбу.
Виктор, брат Тамары, дождавшись своего часа, с нетерпением взял в руки мелкокалиберку. Было здесь много девчат. Стояли группками, любовались молодецкой удалью. Особо метких поощряли аплодисментами.
В стороне от мишеней, на высоких свежих столбах, крепился турник, к нему тянулась очередь потенциальных рекордсменов. К перекладине подошел смуглолицый юноша, скинул кепку и пиджак, поиграл плечами, размял руки. Из-под среза майки на груди его показалась неразборчивая татуировка. Тамара услышала негромкие девичьи переговоры вокруг себя:
– Гляди-гляди, черномазенький, ну как есть цыганенок.
– Чей это? Не белогорский вроде.
– Это с Дуванки. Он с братом моим знакомился. Федей, кажись, зовут.
Парень сложил руки в замок, встал на носки и потянулся. Затем пятерней закинул чуб назад и прыгнул, ухватившись за перекладину. Движения его были легкие, он без труда приподнимал свое поджарое тело. После пятнадцатого раза зрители невольно стали считать хором, все сбавляя и сбавляя ритм.
– Тридцать два-а-а-а… – протяжно тянули болельщики.
Одного раза недотянул задонский гость до планки местного чемпиона ГТО. Спрыгнул, уронив в пыль несколько градин пота, привычным движением поправил чуб и придавил его кепкой.
«Не вышло рекорда, – подумал он, – похвастал бы перед домашними, особенно Анютка б оценила».
Сестра его Анюта, десяти лет от роду, в компании женщин и девушек шла с поля. Закончив месяц назад четвертый класс, она решила, что уже вполне образованная, заявила родителям, что писать-считать умеет, а значит, и для работы уже сгодится. Отец и раньше часто таскал ее с собой, ставил на мелкие «должности», посылал на посильные задания. Ранним утром, когда шло распределение на участки и поля, бригадир Безрученко прикрывал заболевшего колхозника своей неучтенной плавающей «единицей». Мать Анюты поначалу ворчала на мужа, но, видя, что дочь с большей охотой таскается за отцом, чем бежит в школу, примолкла.
Бригада их возвращалась с прополки, день на солнцепеке вымотал работниц, но по старой традиции не могли они возвращаться с поля без песни. Тягучая, как степь, она неслась над пыльной дорогой:
Ой, у вышнэвому саду, там соловэйко щэбэтав —
До дому я просылася, а ты мэнэ все не пускав.
Проплывающий в небе стрепет подмешал резкий клекот в старинную песню. Анюта, машинально повторяя заученные с младенчества слова, думала о своем. Еще неделю назад отец сказал, что сегодня лучшие труженики поедут в город для коллективной фотографии, а потом эту карточку повесят в правлении с благодарственной припиской. Анюта считала, что такое мероприятие не обойдется без нее, и предвкушала сладостную детскую гордость.
Она перехватила тяпку, и взгляд ее скользнул по синей надписи «Аня» на правой руке, чуть выше большого пальца. Год назад, когда Федору исполнилось пятнадцать, кто-то из его компании разузнал технологию битья наколок. Имея за образец один-единственный рисунок, вся улица колола друг другу на груди орла, несущего в когтистых лапах обнаженную девушку. Анюта долго ходила за братом, однообразно канючила: «И мне сделай, и мне». Федор плюнул, расплел связку из трех иголок, оставив лишь одну, и выколол ей на руке имя. Аня кривила лицо от боли, украдкой роняла слезы, но все же дотерпела до конца экзекуции молча.
Войдя в село, женщины разбрелись по улочкам, прощаясь до понедельника. Двор Анюты находился в конце улицы, на краю оврага, за это их семью прозвали Крайнюками. Аня увидела около дома колхозную полуторку с работающим двигателем и все поняла: машина пришла за родителями, сейчас уедут, не дождавшись ее. Песок брызнул из-под ее пяток. Куда только девалась дневная усталость?
Из калитки вышла мать, увидев нарастающий клуб пыли, громко окликнула:
– С нами собралась?
– Я мигом! – на ходу отозвалась Анюта.
– Можешь не торопиться, я в город поросенка не повезу. Оставайся дома.
– Мамочка! Я за секунду! – взмолилась девочка.
– Нечего людей задерживать, – отрезала мать и, уже обращаясь к водителю, крикнула: – Митрофан, трогай!
– А как же Митька? – спросил сидящий за рулем мужик.
– Мимо фермы будешь ехать – остановишь, оттуда его заберем.
Пока матери помогали взобраться в кузов, Анюту поманил сосед дядя Ваня, резко перегнулся через борт, схватил за руку и быстро втащил наверх, спрятав у себя за спиной.
Машина остановилась у «Госфотографии», пассажиры полезли из кузова. Здесь только Ирина заметила свою дочь. Смерив ее быстрым взглядом, с едва заметной лаской сказала:
– Давай руку, пойдем умоемся.
Пока женщины у единственного коридорного зеркала поправляли прически и расправляли на груди стеклянные бусы, а мужики смахивали переходящей по кругу щеткой осевшую на пиджаки и брюки дорожную пыль, Анюта отмывала лицо, шею и руки. Народ никак не мог успокоиться от торжественности момента, от тряской езды по дороге с шутками и частушками.
– Галина, подай расческу.
– Да куда она тебе, Григорич? Ты ж смолоду лысый ходишь.
– Мишка, вспомнил, как та казачья начинается, на обратном пути затянем…
– Товарищи, – ворчал работник фотоателье, – ну, давайте уже начинать. У меня рабочий день закончился, по вашему делу здесь задержался, а вы так несерьезно.
Возвращались с песнями, гудящий мотор полуторки не мешал веселому настрою. Вечер на этом не закончился, поездка стихийно переросла в вечеринку. Родители привели Анюту домой, а сами, собрав нехитрую закуску, пошли в гости.
Наскоро поужинав и перекрестившись на икону, девочка прошла в комнату. Федор еще не вернулся с белогорского праздника, а Маруся, старшая на два года сестра Анюты, уже лежала в кровати и слушала бабушку Ганну. Старушка остановила свое повествование, обернулась на шорох занавески. Дождавшись, пока Анюта разделась и залезла под одеяло, продолжила:
– Наступит такое время, когда не будут различать мужчину и женщину…
– Да как же это, бабушка? – удивилась Маруся. – Ведь мы юбки носим, а мужики – штаны, у нас длинные волосы, а у мужиков – короткие.
– В Писании так сказано, – отвечала бабушка, – я уж этих времен не застану, а вот вы увидите. Война придет с восход-солнца. Засуха будет длиться несколько лет кряду. Океаны и моря останутся, а та вода, которую пить можно, вся исчезнет. Золото ничего не будет стоить, а вода станет самым дорогим на земле. Люди будут бродить по пустыне, увидят блеск и подумают, что это блестит вода, но находить будут вместо нее одно только золото и проклинать его будут.
Девочки замерли, сдерживая дыхание и боясь пропустить хоть одно слово. Натягивая по подбородок одеяла, они чуяли страх за себя и за всю землю.
Старушка говорила:
– Первый конец века был от воды. Жил в то время один праведный человек – Ной. Люди набрались столько греха, что Господь решил наказать их и обрушил Небо на Землю. Вода затопила всю Землю, а Ной, предупрежденный Господом, успел построить ковчег и собрал в нем свою семью и всю скотину сухопутную. Ной с семьей спасся, а когда вода сошла, то выпустил всю животину на волю. Теперь конец веку придет через огонь. Люди не будут знать, где укрыться от него, и все сгинут.
– А что же делать, бабушка? – спросила Анюта. – Как же спастись?
– Никто от этого не спасется, надо только жить по-человечески, большого греха не делать.
Старушка встала с табурета, раздвинула занавески и распахнула створки окна. Открылась улица и кусок неба. Плотным хороводом кружились на небе звезды. Показывая на Млечный Путь, бабушка Ганна молвила:
– По этой дороге все грешники на Страшный суд пойдут.
Поискав на небе еще, старушка показала созвездие Лебедя:
– А вот крест православный. Запомните его и никогда не отрекайтесь.
Дети вгляделись в переплетение звезд с вертикальным столбом и двумя поперечинами.
– А теперь, пока светло, закрывайте глаза, я буду тушить свет.
Девочки нырнули под одеяло, старательно зажмурились. Старушка прочитала короткую молитву, перекрестила внучек и задула керосинку. За спиной послышался жалобный голос Анюты:
– Ба! Я, кажись, глаза неправильно закрыла.
– Смотри не открывай! – предупредила старушка. – Если откроешь глаза, как потом в темноте их правильно закроешь?
Подойдя к кровати, она на ощупь нашла веки Анюты, осторожно и ласково поглаживая их, проговорила:
– Все, теперь правильно они у тебя закрыты, спи с Богом.
* * *
Тамара проснулась от непонятного чувства. Ей не хотелось на двор, и кошмар ей не снился. Она просто очнулась и вышла на улицу. С разных концов села слышался ленивый брех дворовых псов, в дальних садах выводил старательную трель запоздалый соловей – известно, что вьет он песни только до летнего солнцеворота. В хлеву, почуяв приближение утренней дойки, тихо замычала корова. Дремавшая на чердаке кошка спрыгнула вниз и принялась тереться о ноги девочки, выпрашивая свою порцию молока.
Стоя посреди двора, Тамара залюбовалась ночным небом. Звезды низко нависли над селом, от их света готовы были вспыхнут соломенные крыши домов.
Коротки летние ночи. На востоке уже обозначилась светлая полоска, обещавшая начало нового дня, а из курятников неслась петушиная перекличка. Тамара знала: так будет всегда. Она не повзрослеет, братья и сестры останутся теми же и никогда не изменятся, мама будет заботливой и ласковой, а отец не перестанет играть на медной трубе.
Минувший вечер был субботой 21 июня 1941 года.
* * *
Дмитрий Григорьевич Безрученко родился в предпоследний год уходящего века, успел немного повоевать на Империалистической, когда германский фронт развалился – пришел домой. В восемнадцатом попал в красный полк, проходивший через Дуванку. Через несколько месяцев бутурлиновский мужик, однополчанин Дмитрия, помогал Ирине выгружать из подводы ее бившегося в тифозном жару, обовшивевшего супруга. Под всеобщую мобилизацию Дмитрий Григорьевич не попадал. Федору до призыва оставалось целых два года. Снаряжать в армию в этом доме пока было некого.
В белогорской семье Журавлевых отец семейства имел уже преклонный возраст – сорок семь. В Гражданскую он попал в Богучарский партизанский полк, преобразованный затем в дивизию Красной армии, и провоевал в нем до конца войны. За это имел два наградных листа «Красный партизан», гордо висевших на стене рядом с духовой трубой. Виктору в апреле исполнилось только шестнадцать.
Война гремела вдали, ее пока не было слышно, но уже тянула она свои костлявые пальцы сюда, на донские берега. Приходилось каждый вечер, прежде чем зажечь лампу, закрывать ставни и затыкать тряпьем оконные щели. Люди, и раньше пропадавшие на работе с рассвета до заката, теперь не появлялись дома сутками.
С запада приходили тревожные вести, а ближе к осени потянулись первые караваны беженцев. Поначалу отдельные семьи на подводах, запряженных волами и лошадьми. Пейсатые ортодоксы, закутанные в черные шали женщины и седые старики с глазами, полными тысячелетней еврейской печали, несли в донскую степь дух невиданной страны, вывезенный из древних местечек Украины. Белогорцы, провожая взглядами бредущих по осенней грязи скорбных иудеев, понимали: что-то сковырнулось в этом мире, не придется ли и нам вскорости так же собираться в дорогу?
За беженцами потянулись гурты коров и овец, госучреждения, рабочие заводов, служащие, активисты и все те, кто по разным причинам не захотел оставаться на оккупированной территории.
В Белогорье работали два парома: небольшой пассажирский и вместительный грузовой, рассчитанный на 15-тонную ношу. Были паромы и в других крупных селах, но в Белогорье к переправе и дальше, вплоть до самого Павловска, тянулось каменное шоссе, а это в сезон осенней распутицы было важно.
Среди череды нескончаемых дождей в середине сентября выдался день, блеснувший ярким солнцем бабьего лета. Оно грозилось хоть немного подсушить напитанную влагой землю.
Дмитрий Безрученко сидел в конторе заведующего фермой, заполнял ведомости. Украдкой глянув в окно и заметив сгущающиеся за рощей тучи, он с досадой подумал: «Чертова природа, не даст грязюку вывести».
В контору заглянул парнишка:
– Дядь Мить, мы свиньям корм задали, разрешите на обед?
– Скажи бригаде, пусть идут. Я в конторе буду, вернетесь – тоже схожу. Только ворота на ферму снаружи прикройте! – крикнул парнишке вдогонку Дмитрий.
Грозовые тучи наползали все плотнее. Отдельные крупные капли, принесенные ветром, стали барабанить в окно. Взрыв грохнул одновременно со вспышкой молнии. Дмитрий почуял под ногами земную дрожь. Через окно конторы он разглядел полыхнувшую крышу фермы. Он кинулся к воротам, сдернул крючок, распахнул створки настежь.
Свиньи таранили боками перегородки и стены, обрушивая с них глину, гневно рыли пятаками землю. Дмитрий бросился открывать калитки, в спешке выгонял свиней из станков. Взбесившиеся от испуга, метались они куда попало, несколько раз сбивали его с ног. Труднее всего пришлось со свиноматками: скаля пасти, они не желали никого подпускать к поросятам.
Выломив жердь, он отчаянно хлестал их, выгоняя на улицу. Свиньи выбегали в огороженный пряслами загон, обезумев от страха, кусали друг друга. Дмитрию не давали покоя две убитые молнией свиньи, он видел их мельком в одном из загонов. «И за них ведь спросят», – пронеслось в голове, и он побежал обратно на ферму.
Косые струи дождя полосовали Степана, родного брата Дмитрия. Он возвращался из Павловска и за стеной воды не сразу заметил поднимавшиеся в небо клубы желто-серого дыма.
По полю бежала мокрая баба и голосила:
– Митька Крайнюк сгорел!
– Брешешь! – остановил ее Степан.
– Сама видала, внутрь забег, а назад – нету!
Степан побежал на ферму и не узнал брата: опаленные волосы превратились в рыжую шапку, рот от страха перекосило набок, в потерянных глазах – смертельный испуг. У его ног лежали две наполовину обугленные молнией свиньи.
Степан ухватил Дмитрия за рукав, потащил на улицу.
Из деревни бежали люди, но дождь уже справлялся с пламенем. Дмитрий сидел неподалеку, немигающими глазами смотрел в землю. Степан отливал его водой.
Домой Дмитрия привезли вечером, самостоятельно стать на ноги он не мог. Увидев мужа, Ирина залилась горьким женским плачем.
Через неделю, договорившись о транспорте, она повезла мужа в Павловскую больницу. Престарелый доктор, не попавший на фронт по мобилизации, осмотрев пациента, вынес вердикт, а точнее, приговор – рак кости. От полученного шока кости стали чернеть, на рентгеновских снимках было видно, что болезнь быстро развивается, чернота стала переходить на легкие и сердце. До приезда в больницу Ирина думала, что муж, хоть и останется инвалидом, но будет жить. А теперь…
С каждым днем Дмитрию становилось все хуже. Боли усиливались, он не мог встать на ноги, не мог лежать, часто просыпался среди ночи. Жена подкладывала ему под спину кучу подушек, фиксировала его, – только так Дмитрий мог заснуть на некоторое время.
В семье готовился новый хозяин, на молодые плечи которого жизнь, не спросивши, взваливала отцовские заботы. Федор с началом осени поступил на курсы трактористов и, получив к зиме квалификацию, стал работать в МТС.
Как-то, вернувшись поздним вечером с работы, он жадно набросился на ужин. Мать села напротив и, подперев кулаком щеку, внимательно посмотрела на сына. Он заметно повзрослел за эти месяцы: смуглое красивое лицо приобрело серьезность, но оставалось таким же гладким, без единого волоска. На его тельняшке позвякивали комсомольский значок, значок ГТО и Осоавиахима.
– Ну, как на работе, тяжело? – как всегда, спросила Ирина.
– Ремонт, мама, ремонт, – обжигаясь щами, ответил Федор, – в поле выйдем, тяжелее начнется.
– Куда летишь-то? Не торопись, – ласково сказала она.
– Заседание комсомольское, опаздываю.
Закончив с ужином, Федор накинул фуфайку и торопливо оглядел кухню. Маруся, вплотную придвинувшись к лампе, вполголоса учила заданный на дом стих: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь, она завоет, то… зарыдает…» Приоткрыв заложенный пальцем учебник, Маруся хотела заглянуть в забытую строчку, но Анюта, на пару с бабушкой штопавшая шерстяные носки, выпалила:
– То заплачет, как дитя!
– Цыть! – замахнулась на младшую внучку баба Ганна. – Не мешай.
– Да чего она триста тридцать три раза долдонит?
– Замолчь, сказано. Сама бы в школу шла и училась, а из-за спины нечего подсказывать.
С печки доносился тихий стон отца. Федор хотел остаться: послушать сводку Информбюро, прочтенную Марусей, а потом рассуждения бабушки; помочь Марусе с математикой; запомнить сказку, рассказанную бабушкой, и в темноте повторять слова молитвы, читаемые ею. Улыбнувшись матери, не сводившей с него глаз, он отворил дверь и шагнул в темноту, ударившую его ворохом колючих снежинок.
После Нового года из Дуванки стали эвакуировать скот и материальную базу обоих колхозов. МТС, в которой работал Федор, отправили в Урюпинск. Сборы были спешные. Ирина с вечера наготовила в дорогу продукты и, уложив детей спать, долго не могла заснуть сама. Материнское сердце говорило, что за этой поездкой в другую область, где он так же, как здесь, будет возделывать землю, стоит что-то иное. Она не могла знать, что через полгода, когда правый берег Дона займет враг и в далеком Урюпинске выяснят, что их Дуванка находится в прифронтовой зоне, забреют всех парней бригады в армию.
Посреди февраля, в трескучие морозы, умер Дмитрий Григорьевич. Мужики весь день жгли костер и долбили ломами мерзлую, чуть оттаявшую после огня землю. На исходе короткого зимнего дня к разрытой яме подошла небольшая похоронная процессия.
Гроб сняли с саней и взяли на руки брат и друзья Дмитрия. Расторопная соседка по прозвищу Котыха поставила в снег две табуретки. Маруся с Анютой, торопливо приложившись к ленточке с «Живыми в помощь» на лбу отца и утирая слезы, отошли в сторону. Ирина упала на грудь мертвого мужа и забилась в причитании. Степан поднял ее, крепко взял за плечи и отвел от гроба:
– Забивайте!
Мужики быстро накинули крышку, а колхозный шофер, дядя Митрофан, торопливо перекрестился зажатыми в пальцах гвоздями:
– Господи Иисусе Христе, помилуй нас, грешных!
– Иришка, – тряс Степан за плечи вдову, – посмотри на детей. О них кто подумает, кроме тебя? Кончай это дело, кума!
Он вел ее под руки до самого дома.
* * *
Через две недели на их улице умерла одна женщина. Дочь покойной пришла к Ирине с просьбой:
– Иришка, разреши мою мать в ту ж могилу положить, где твой Митька захован. Сама знаешь, земля промерзла, а денег с копачами расплатиться у меня нет.
Вдова угрюмо взглянула на девушку из-под опухших век, тихо молвила:
– Иди у Степки спроси. Мне-то что, мне не жалко.
Степан согласился при условии, что могилу раскапывать будет он сам. Хотя эта земля тоже была промерзшей, но она еще не успела слежаться, и Степан быстро справился с новой могилой. Дойдя до гроба, он сделал нишу в стенке ямы, куда должны были опустить гроб с новопреставленной покойницей.
На кладбище пришла и Ирина с детьми. Став у края разрытой могилы, она, стесняясь своей просьбы, сказала:
– Кум, открой гроб, одним глазком погляжу только…
– А тужить не начнешь? – спросил Степан.
– Не буду, – заверила женщина.
– Дядька Степан, – подала голос Анюта, – и мне покажи!
Он спустил девочку на дно ямы. Уперев топор в щель меж крышкой и гробом, Степан отогнул гвозди. Анюта увидела отца таким же, каким он был в день похорон, лишь легкий иней был на его лице и одежде.
– Как живой, – всхлипнула Ирина и завыла в голос.
Степан подхватил на руки Анюту, поднял ее наверх, а сам вернул крышку на место и заколотил гвозди обратно.