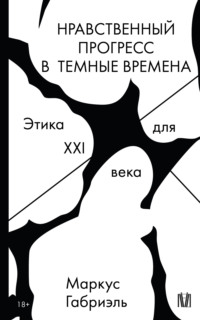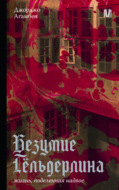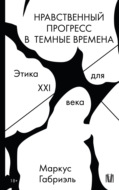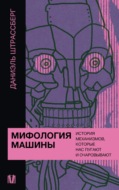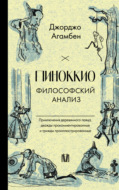Buch lesen: "Нравственный прогресс в темные времена. Этика для XXI века", Seite 5
Богоссян и Талибан65
То, что культурный релятивизм не имеет под собой твердой почвы, можно понять по ряду аргументов, которые в прошлые десятилетия развивал преподающий в Нью-Йоркском университете философ Пол Богоссян 66. Один из его примеров – это моральный конфликт между ним и членом Талибана 36. Богоссян считает, что имеет место следующее:
Богоссян. Школьное образование для женщин и девочек морально надлежаще.
Член Талибана67 о том же. Школьное образование для женщин и девочек морально недопустимо.
Культурный релятивист описал бы ситуацию в том смысле, что Богоссян и талибы в действительности находятся в чистом конфликте интересов. Богоссян, как он мог бы допустить, отстаивает интересы и ценности, свойственные США, к которым относятся обязательное всеобщее школьное образование, не проводящее границ между мальчиками, девочками и прочими68, так как все должны пользоваться благами образования, чтобы в последующей жизни добиться равенства возможностей. Релятивист мог бы и далее проанализировать мнения Богоссяна, разместив систему допущений американцев из США вкупе с их культурой в более широкий контекст западных ценностей. У талибов же, в этом плане, другая культура, в рамках которой они отводят женскому полу в обществе совершенно иные задачи, что связано с их истолкованием Корана и прочими местными нравами.
Релятивист, по-видимому, считает, что своей интерпретацией он делает нечто хорошее для всех сторон спора и каким-то образом признает правоту их всех. Ведь каждый, с его точки зрения, прав: как Богоссян, так и талиб считают истинными определенные моральные высказывания, пусть и не на подлинно моральных основаниях, а на основе их соответствующей групповой принадлежности.
Но это размышление кажется стабильнее, чем оно есть. Рассмотрим его повнимательнее. Богоссян указывает на то, что релятивист в итоге должен иначе истолковать высказывания конфликтующих сторон. Так, согласно релятивистам, Богоссян в действительности не верит в свое собственное высказывание «школьное образование для женщин и девочек морально надлежаще». Ведь релятивист (в отличие от Богоссяна) якобы знает, что ничто не является абсолютно морально надлежащим. Поэтому релятивист слышит высказывание Богоссяна иначе, а именно так:
Школьное образование для женщин и девочек является морально надлежащим относительно ценностных представлений американцев из США.
Нечто похожее верно и для других обсуждаемых моральных мнений. Так, член Талибана69 в действительности имеет в виду вот что:
Школьное образование для женщин и девочек морально недопустимо относительно истолкования Корана Талибаном70.
Фатальная проблема этого маневра проступает отчетливее, если мы делаем еще один шаг к абстрагированию. Как правило, считается, что очевидный моральный конфликт между A и B существует, если A считает φ морально надлежащим, а B, наоборот, считает φ морально запретным.
φ обозначает здесь морально нагруженное действие. Дело обстояло бы совершенно иначе, если бы моральные конфликты в действительности заключались в том, что A считает φ морально надлежащим (напр.) в Германии, тогда как B считает φ морально запретным (напр.) в Саудовской Аравии. В этом случае немецкий культурный релятивист в Саудовской Аравии мог бы делать то, чего он никогда бы не сделал в Германии, скажем, активно забивать кого-то камнями, не совершая при этом моральной ошибки. Но этого никогда не стал бы делать даже закоренелый западный культурный релятивист. Таким образом, культурный релятивист соглашается с тем, что он сам занимает моральную позицию и притом придерживается безусловного мнения, что людей мучить нельзя.
Иначе вообще не было бы того конфликта, который культурный релятивист хотел бы описать. Если бы культурный релятивист считал, что забивать людей камнями нельзя, кроме как в Саудовской Аравии, а аравиец считал бы, что забивать людей камнями следует только в Саудовской Аравии, но не в Германии, то оба были бы согласны друг с другом и вообще не было бы различных систем мнений, но лишь правила поведения локального значения. Если бы немецкий культурный релятивист, напротив, считал в Германии, что нельзя забивать людей камнями, то это имело бы для него силу и в Саудовской Аравии.
Почему мораль должна изменяться оттого, что некто оказывается в ином месте, где, возможно, мнение большинства о надлежащем и запретном звучит иначе? Решающим фактором здесь является то, что забиваемые камнями в Саудовской Аравии почти наверняка не придерживаются мнения, что забивание камнями в Саудовской Аравии – это нормально в моральном плане, что указывает на серьезную проблему культурного релятивизма: культуры в общем не гомогенны, но в лучшем случае образуют некоторые идейные большинства (Meinungsmehrheiten). Не существует закрытых культурных кругов, в которых господствуют однозначные и принимаемые всеми ценностные представления. Культуры всегда многосложны, даже если они и определяют малые группы. Каждый знает это по семейным праздникам.
Моральные факты о том, что мы должны и не должны делать, не ограничиваются территориями. Они имеют значение везде и для каждого. По этой причине, к примеру, введенный в Дании так называемый «закон о гетто» является морально неприемлемым. В 2018 году Дания классифицировала 28 городских кварталов как гетто и ввела для этих областей специальные законы. Согласно сообщению Tagesschau от 28.12.2018, в гетто действуют обязательные детские сады-интернаты, а также более суровые наказания за такие «правонарушения, как воровство и вандализм». Кроме того, вводятся обязательные языковые тесты в дошкольных образовательных учреждениях и повышенная численность полиции. Таким образом, группы людей систематически ущемляются, так как они оцениваются по датским представлениям о норме, которые используются в качестве повода для более суровой оценки их поведения. Это явно противоречит идее слепого правосудия, которое судит без оглядки на личные качества.
Проект был утвержден правонационалистической Датской народной партией в правоцентристском правительстве и является примером морально неприемлемого истолкования текстов законов. В этом случае датское государство ведет себя как своего рода умеренная форма аристократии, в которой некоторые люди считаются лучше других, так что совсем не народ (все датчане), но часть народа провозглашает себя сувереном. Это уже не демократия, по крайней мере не в этой области.
Здесь вновь становится видно, сколь мало расплывчатое понятие «культура» можно применять к нациям. Кажущиеся политически столь образцовыми скандинавы (тоже очень обманчивый стереотип) показывают зубы, обращаясь против людей, которых они провозглашают другими, бесстыдно ущемляя их и низводя их до уровня граждан второго сорта. Таким образом, совсем не нужно постоянно приводить Северную Корею или Саудовскую Аравию для примера суровых, несправедливых мер: моральная несправедливость начинается дома, в данном случае в ЕС; она – не просто какая-то вещь из дальних краев, на фоне которой Запад ощущает себя морально правым.
Иудео-христианских ценностей не существует, и почему ислам очевидно является частью Германии
Культурный релятивизм – это инструмент в ящике популизма (об этом спорном понятии см. ниже с. 275 и след.). Его охотно привлекают резко популистски окрашенные правительства или оппозиционные партии, чтобы обосновывать и проводить планы конкретных действий. Пример тому – распространенные в прошлом, недавно минувшем, десятилетии речи про «иудео-христианские ценности», «иудео-христианскую традицию» или даже «иудео-христианский Запад». Отправной точкой недавних разглагольствований об иудео-христианском Западе была речь, произнесенная в 2010 году тогдашним президентом ФРГ Кристианом Вульфом в честь двадцатилетия германского единства, последствия которой он определенно не предвидел. Эта речь содержала следующий пресловутый пассаж:
Но прежде всего нам нужна ясная позиция. Понимание Германии, которое не сводит причастность к паспорту, семейной истории или вере, а выстраивается шире. Христианство, несомненно, является частью Германии. Иудаизм, несомненно, является частью Германии. Это наша христианско-иудейская история. Но ислам, между тем, также является частью Германии. Почти 200 лет назад Иоганн Вольфганг фон Гёте выразил это в своем «Западно-восточном диване»71:
Речь заканчивается фразой «Боже, храни Германию», с которой, кстати, могли быть не совсем согласны политеисты и атеисты, которые также являются частью Германии. В любом случае, в ней звучало обращение к некоей «христианско-иудейской» истории без объяснения того, когда она началась и какие именно эпизоды общей немецкой истории она охватывает. (Как быть, к примеру, с дохристианской историей германских племен? Или со страшными волнами антисемитизма в немецкой истории, являющимися существенной частью настоящей христианско-иудейской истории?) Все знают, что немецкая история в целом далеко не радостна. А зафиксированные в догматах положения иудаизма и христианства по факту отчасти несовместимы, что касается и ценностных систем, эксплицитно провозглашаемых священными текстами обеих мировых религий. Христианство и иудаизм мирно сосуществовали далеко не всегда. История христианства полна антисемитизма, что касается всех христианских конфессий в прошлом. Однозначной «христианско-иудейской истории» просто не существует.
Серьезное замешательство речь Вульфа вызвала в частности оттого, что она никак не пояснила решающий предикат «причастности», из-за чего нам пришлось терпеть, к сожалению, все еще не прекратившиеся бессмысленные споры о том, является ли ислам частью Германии (как полагали Вульф и позднее бундесканцлер ФРГ) или скорее нет (как громогласно утверждали их оппоненты, прежде всего Тило Саррацин73).
При этом совершенно очевидно, что ислам ни в каком релевантном отношении не является менее частью Германии, чем другие монотеистические религии. В речи и последовавшей за ней болтовне, конечно, были забыты атеисты, агностики, политеисты и т. д., чье право на существование недвусмысленно засвидетельствовано основным правом74 и правом человека на свободу вероисповедания. В частях 1 и 2 статьи 4 нашего Основного закона сказано:
(1) Свобода вероисповедания, свобода совести и свобода религиозных и мировоззренческих убеждений неприкосновенны.
(2) Гарантируется беспрепятственное исповедание религии.
Понятие религии не ограничивается ни монотеизмом, ни христианством и иудаизмом (что было бы абсурдно). Вопрос о том, как религии относятся к демократии и как свобода вероисповедания обосновывается и отстаивается в качестве ценности, исчерпывающим образом не объясняется 75. В пылу дебатов вокруг ислама отчасти на основе совершенно ненаучных аргументов вновь и вновь утверждалось, что ислам как таковой представляет угрозу для свободно-демократического общественного порядка, что его ценности несовместимы с нашим (чьим?) представлением о правах человека и т. д. Это, помимо прочего, обосновывалось толкованиями Корана, которые популярно излагал Саррацин, не будучи способен никак засвидетельствовать свои научные компетенции в области ислама.
Что вообще значит «ислам» или «христианство»? Ведь точно не просто все, что говорит Библия или Коран. Означают ли эти слова, что некто чтит традиции, подает милостыню, празднует Рождество или Рамадан? Строгое, фундаменталистское истолкование Библии, во всяком случае, столь же несовместимо с демократическим правовым государством, как и фундаменталистское истолкование Корана, в котором многие видят угрозу, упуская из виду христианский и иудаистский фундаментализм или преуменьшая его опасность.
Здесь стоит упомянуть, что великие монотеистические мировые религии – иудаизм, христианство и ислам – возникли задолго до современных демократий, сформировавшихся в ходе революций XVIII и XIX века. Никто из основателей мировых религий не мог симпатизировать современной демократии, так как в их пору такая форма правления была попросту неизвестна. Многие наставления к действию и указания, содержащиеся в священных текстах всех мировых религий (включая индуизм и буддизм), явно призывают к ущемлению человеческого достоинства и поэтому однозначно несовместимы с нашим пониманием структуры прав человека. Так, ужасающий пример являет следующий пассаж из третьей книги Моисея, глава 20, где затрагивается тема мужской гомосексуальности: «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них» (Лев. 20:13).
Согласно Моисеевым правилам, еще проще можно навлечь на себя чуть менее суровое наказание через изгнание: «Если кто ляжет с женою во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечения ее, и она открыла течение кровей своих: оба они да будут истреблены из народа своего» (Лев. 20:18).
К измене также относятся совсем без снисхождения, так как в том же контексте мы читаем: «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, – да будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка» (Лев. 20:10).
Плохо дело и в том случае, если кто-то ругается на своих родителей: «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти; отца своего и мать свою он злословил: кровь его на нем» (Лев. 20:9).
Действие «Бхагавадгиты», важного священного текста индуизма, также происходит в ужасающем контексте76. Она является частью большого стихотворного эпоса «Махабхарата», в котором повествуется о жестокой войне между кланами двух кузенов, Кауравами и Пандавами, сражающимися за престолонаследие и власть над территориями. В сложной ситуации оказывается, что бог Кришна, являющийся аватаром (воплощением) бога Вишну, выступает в роли возничего Арджуны, принца из клана Пандавов. Арджуна не решается вступать в жестокую войну против своей собственной семьи. Но бог Кришна открывается ему. Наставление в божественной мудрости ни в коем случае не ведет к концу войны и примирению семей, но придает Арджуне смелости вступить в сражение, так как он видит в своем божественном возничем знак того, что война справедлива.
В священном тексте индуизма, в разговоре между Арджуной и Кришной речь идет об оправдании войны между семьями, а не о миротворчестве. Судя по этому тексту, индуизм точно так же, как и Ветхий и Новый Завет, является делом довольно ужасающим.
В христианстве дела обстоят не сильно дружелюбнее. Иисус, как сказано в Новом Завете, пришел «не мир <…> принести, но меч» (Мат. 10:34). «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение» (Лук. 12:51). В этой связи Иисус как апокалиптический пророк требует покинуть свою собственную семью и любить его больше, чем отца и мать, и даже больше своих собственных детей. Апокалиптическое настроение Нового Завета основывается на допущении, что мир скоро исчезнет и настанет Судный день, так что продолжение мещанской семейной жизни в этих условиях (до сих пор не наступивших…) просто не имеет смысла.
Арджуна не Ганди, а Матфей не папа Франциск, по которым можно судить о моральном прогрессе в области религии. Интерпретации индуизма у Ганди и христианства у Франциска ориентированы на пацифизм и универсализм, так что они с самого начала стараются противостоять фундаменталистским заблуждениям – при том, что ситуация по многим причинам не столь проста, так как обоих можно упрекнуть в реакционном представлении о женщинах.
Суть этих примеров в том, что тексты всех мировых религий во многих случаях содержат руководства к действиям и мировоззрения, которые однозначно несовместимы с демократически гарантированным уважением к человеческому достоинству. Если бы некто следовал этим отчасти явно сформулированным призывам к жестокому насилию, которые требуют попирать ногами человеческое достоинство (забивать камнями гомосексуалов и изменников; относиться к женам и слугам как к собственности и т. д.), то он нарушил бы основополагающие правила игры современного демократического правового государства, в частности той его версии, что имеет место сегодня в Германии. Тот, кто считает, что ислам не является частью Германии, поскольку Коран содержит жестокие места и призывы к насилию, должен соответственно признать, что тогда и иудаизм, христианство, индуизм и буддизм равно не являются частью Германии. Тогда ХДС77 не соответствовал бы Основному закону, а Ведомство по охране конституции78 должно было бы его проверить – что, разумеется, нонсенс. У нас господствует свобода вероисповедания, которая несовместима с фундаментализмом, но не с религией. Так как есть сколько угодно нефундаменталистских интерпретаций ислама (равно как и других религий), ислам, разумеется, является частью Германии ничуть не меньше буддистских центров для медитаций или церквей. Мы бы достигли серьезного морального прогресса, если бы это не надо было специально подчеркивать.
Современные государства определяют свободу вероисповедания таким образом, что отправление культа ограничивается для всех религий. Тот, кто попытался бы строго придерживаться буквального текста Библии, мог бы свободно практиковать свою религию в Германии в столь же малой степени, как и тот, кто придерживается буквального текста Корана, причем ситуация здесь, конечно, гораздо сложнее, чем кажется, ведь совсем не ясно, каков, собственно, буквальный текст этих книг. Это уже зависит от интерпретации.
Поэтому в эпоху модерна возникла дисциплина герменевтики (др. – греч. hermeneia – «понимание»). С помощью этого метода священные тексты истолковываются так, чтобы их можно было согласовать с современными знаниями. Герменевтика возникла из теологии, которую в Германии мы, к примеру, поддерживаем бюджетными средствами в форме теологических факультетов в государственных высших школах. Смысл этой поддержки в проекте Просвещения состоит в том, чтобы связать истолкование религии с государственными институтами (такими как теологические факультеты), чтобы определить, в какой мере они совместимы с универсальными, не привязанными ни к какой религии и не обосновываемыми никакой религией ценностями, которые составляют современное правовое государство.
На ислам распространяются те же правила игры, что и на любую другую религию. Между тем, он был и более тщательно теологически исследован после того, как Федеральное министерство образования и научных исследований Германии основало во многих немецких университетах центры исламской теологии, чтобы принять в расчет то обстоятельство, что в Германии живет по меньшей мере четыре миллиона мусульман, многие из которых являются немцами ровно в том смысле, который разделяет автор этих строк, то есть являются гражданами Германии.
Напомним себе и о следующей самоочевидной вещи: описанные права в Основном законе, основывающиеся на идее прав человека, распространяются, во‐первых, не только на Германию и, во‐вторых, не только на немцев в Германии. Человеческое достоинство французских туристов, беженцев и т. д., проживающих в Германии, надо защищать так же, как и в случае потомков Гогенцоллернов, семью, которая по достоверным сведениям уже довольно давно проживает на нынешней территории Германии, где некоторые из их предков во времена колониализма и Первой мировой войны совершали преступления против человечества.
Универсальность человеческих прав выражена в части 2 статьи 1 Основного закона следующим образом:
Исходя из этого, немецкий народ признает неприкосновенные и неотчуждаемые права человека в качестве основы всякого человеческого сообщества, мира и справедливости на земле.
Здесь, кстати, можно увидеть критерий того, при каких условиях некто является частью немецкого народа: если некто признает права человека как основу всякого человеческого сообщества и т. д. – все это включается в понятие немецкого народа. Одного этого, конечно, еще недостаточно для гражданства, которое определяется другими критериями.
Правовое государство определяет правила игры для свободы слова, гражданства и основных прав, которые могут применяться в качестве оснований для охраны конституции. Поэтому рейхсбюргеров или религиозных фундаменталистов, оспаривающих права человека, автоматически не изгоняют и не лишают гражданства, так как такие методы также были бы несовместимы с правами человека и приводили бы к диктатуре мнений79 или ГДР 2.0, которой пугают многие популисты, но которой вовсе не существует.
Частью прав человека является то, что свободе мнений отводится пространство, настолько широкое, что можно даже выражать очевидно ложное и противоречащее Основному закону мнение, что в нашей стране с правами человека не все так гладко. Но это мнение ложно. А споры о том, является ли ислам частью Германии, бессмысленны, так как ответ на него ужасно прост; он гласит: да.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.