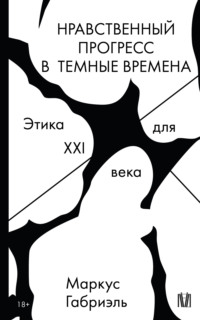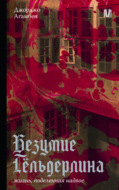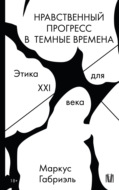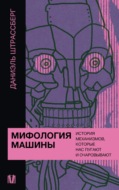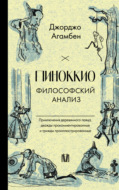Buch lesen: "Нравственный прогресс в темные времена. Этика для XXI века", Seite 4
Моральные факты
Факт – это объективно существующая истина. К примеру, истинно то, что поезда Deutsche Bahn47 часто опаздывают. Также истинно то, что у Земли есть только одна Луна, что она вращается вокруг Солнца, что Ангела Меркель – бундесканцлер, что более чем у миллиона индийских граждан есть спортивная обувь и что сейчас я заканчиваю это предложение.
Однако в области ценностей также есть факты – моральные факты. Многие сегодня явно или неявно считают, что моральных фактов не существует, и, тем самым, нельзя объективно определить, что на моральных основаниях мы должны делать в определенной ситуации, а от чего – воздерживаться. Вместо этого люди считают, к примеру, что «если бога нет, то все дозволено» (говоря словами Жан-Поля Сартра)48.
Это затрагивает принципиальный вопрос, который ставится в разных формах: есть ли вообще объективные ценности? Этот вопрос тесно связан с тем, что мы должны делать. Если бы чистая действительность не содержала никаких требований, если бы требования, напротив, были всегда лишь голосами авторитетов (учителей, родителей, церквей, интернализированных нами правительств и т. п.), этика фактически была бы педагогикой, психологией или социологией. Мы могли бы заменить этику духовным наставничеством (Seelenführung) или поведенческой экономикой, которую применяют, чтобы управлять нами как иррациональным стадом.
Поэтому наряду с вирусологическими предложениями в дни коронавирусного кризиса находят применение модели поведенческой экономики: человек во многих странах – как раз в тех, где вводятся ограничения на передвижение, – рассматривается как стадное животное, в действительности не способное на моральные решения. Мораль в этой перспективе не учитывается, так как власти явно или неявно сомневаются в том, что люди способны на подлинное моральное познание49.
Это более или менее мягкая форма ценностного нигилизма, известная в философии как антиреализм. Чтобы лучше понять это лжеучение, мы должны сделать краткий экскурс в философскую теорию.
Философская дисциплина, занимающаяся вопросом о том, имеются ли (более или менее) объективно существующие моральные факты, которые мы можем или же не можем познать, называется метаэтикой. Она занимается важным вопросом о том, какой формой существования обладают моральные факты или же при каких условиях моральные высказывания, с помощью которых мы выражаем запретное, дозволенное и неприемлемое в языке, бывают истинными или ложными и бывают ли они таковыми вообще. Наиболее известные теоретические течения современной (gegenwärtigen) метаэтики можно подразделить на моральный реализм и моральный антиреализм 50.
Моральный реализм полагает, что есть объективно существующие моральные ценности, которые мы можем познать. Такие моральные высказывания, как «ты не должен убивать» или «ты должен сокращать свои выбросы CO2, чтобы следующие за тобой поколения тоже могли хорошо жить», согласно ему, истинны, поскольку есть моральные факты, которые отражают эти постулаты.
Моральный антиреализм, напротив, полагает, что этика (как это формулирует заглавие книги австралийского философа Джона Лесли Маки) – это изобретение морально истинного и ложного 51. Антиреалисты, известные также как субъективисты, считают, что в действительности нет никаких моральных ценностей, никаких предписанных или неприемлемых действий. С этой точки зрения, моральные высказывания в обыденном мышлении грамматически вводят нас в заблуждение о существовании моральных критериев. Эту (предполагаемую) видимость вновь и вновь разоблачают мыслители, от античных софистов, Ницше и национал-социалистического специалиста по государственному праву Карла Шмитта вплоть до наших дней 52.
Антиреализм – это опасный шаг в направлении ценностного нигилизма, который оставляет позади все моральные обязательства. Его необязательно интерпретировать нигилистически, тем не менее, он едва ли может объяснить, почему нам, людям, кажется, что к нам взывает высшая мораль, то есть почему мы испытываем феномен, который все мы знаем как голос совести. Этот голос в глазах антиреалистов является своего рода грамматическим заблуждением.
Границы свободы слова. Насколько толерантна демократия?
Идея парламентской демократии предполагает дебаты и последующую выработку консенсуса, которого ранее не существовало. В консенсусе, как при компромиссе, должны выражаться различные перспективы, чтобы было представлено как можно больше групп населения, составляющих электорат. При этом в пространстве свободного выражения мнений всякое мнение, в первую очередь, такое же хорошее, как и любое другое. Истинно ли оно при этом, не играет, кажется, никакой роли, из-за чего это представление ведет к тому, что ценность истины в этически насущных и трудных вопросах заменяется стратегиями поиска компромисса.
Это может вести к фатальным последствиям. Ведь в политике постоянно обсуждаются сложные моральные вопросы и выносятся моральные суждения. И это хорошо, так как наши избираемые народные представители – тоже люди и при этом несут большую моральную ответственность.
В политике речь идет, как в случае общественных дебатов, не только о формировании мнений, но и о том, чтобы выяснить какие мнения являются хорошими, то есть истинными и морально оправданными. Легко увидеть, что в концепции абсолютно свободного выражения мнений, в котором всякое озвученное мнение действительно считается столь же хорошим, как и всякое другое, есть червоточина.
Допустим, к примеру, что педофилы решили основать партию с целью дать до сих пор подавляемому и даже полицейски преследуемому меньшинству педофилов голоса избирателей, чтобы они могли озвучивать свое мнение в рамках парламентской демократии. Если вы подумали сейчас, что это хорошая идея, вам приведут ряд справедливых возражений. Хоть вам и можно озвучивать такие мнения (за это вас еще не будут наказывать или как-то иначе государственно преследовать), но с попыткой дать педофилам площадку для самовыражения вы далеко не уйдете. Если кто-нибудь, к примеру, предложил бы открыть некоторые детские сады для посещений педофилами, чтобы они могли проявлять свое сексуальное разнообразие, то он быстро обнаружил бы, что это мнение не только неубедительно, но и что много людей, которые до сих пор стремились толерантно признавать все мнения, внезапно выносят жесткие моральные суждения и идут на баррикады.
На этом грубом примере видно, что идея демократии состоит не в том, чтобы всякое меньшинство, свободное волеизъявление которого ограничивается институтами (к которым наряду с педофилами относятся взломщики, убийцы, а равно и враги конституции), имело морально и легально гарантированное право основать партию, чтобы смещать политические рамки общества.
Существуют ценностные рамки демократической легитимности, которая отличается от чисто фактической легальности, в связи с чем законодатели должны в течение каждого созыва перерабатывать некоторые законы, так как за годы или десятилетия они начинают противоречить ценностным рамкам демократии, поскольку не поспевают за моральным прогрессом общества.
Недавний тому пример – упразднение параграфа 103 Уголовного кодекса, который предусматривал иное наказание за оскорбление личности монарха, чем за оскорбление других лиц. Когда Эрдоган сослался на этот параграф и поручил своим немецким адвокатам с помощью строгости правового государства по возможности отправить за решетку Яна Бёмерманна за оскорблявший его стих, это стало чересчур даже для Ангелы Меркель (хотя, с ее точки зрения, и впрямь Бёмерманн со своим морально сомнительным творением зашел слишком далеко), так что это быстро привело к парламентскому консенсусу, и теперь параграф упразднен. Случай Бёмерманна показал, что идея особо тяжелого наказания за оскорбление личности монарха устарела. Тем самым, мы обязаны выходу Бёмерманна к границам допустимого моральным прогрессом.
К сожалению, мы еще не научились соразмерно юридически преследовать иные формы оскорблений, что вновь показал случай в Германии: судебное дело об однозначно морально неприемлемых оскорблениях в адрес политика от Зеленых Ренаты Кюнаст. На данный момент она частично выиграла дело, так что «всего лишь» 16 из 22 направленных лично против нее комментариев признаются легальными. Согласно сообщению в Berliner Morgenpost, к ним относится высказывание «Фу, ты старая зеленая грязная свинья». Morgenpost утверждает, что лазейкой стало тут то, что не всякое сравнение с животным представляет оскорбление53. Это было откровенно цинично, так как «грязная свинья» – это не сравнение с животным, а оскорбление, которое используют, чтобы причинить человеку моральный вред (свиньи в действительности очень чистые животные, так что оскорбление «грязная свинья» оскорбляет еще и свинью).
Верно то, что не всякое высказывание, выглядящее как оскорбление в адрес публичного лица, представляет собой оскорбление и что нам не следует уголовно преследовать всякое оскорбительное высказывание из соображений, лежащих в основании демократического правового государства (что является сложной юридической областью). В демократическом правовом государстве мягкость в применении суровых способов наказания в равной мере играет роль, как и попытка достичь примирения между сторонами судебного дела. Демократическое правовое государство в идеальном случае стремится к социальному миру и, к счастью, пытается постоянно и неумолимо не втягивать людей в сложные случаи судопроизводства.
Поэтому правовое государство – это не жесткий корсет из железных параграфов, но выражение процесса переговоров, который учитывает наши моральные соображения. Судопроизводство развивается в диалоге с общественностью и принимает во внимание моральные соображения. Хотя судьи в таком случае и выносят не моральные, а правовые решения, моральные доводы, тем не менее, в этически релевантных случаях могут использоваться для обоснования решения.
И все же однозначно морально неприемлемо, то есть морально запрещено обозначать Ренату Кюнаст как «грязную свинью», даже если тем самым озвучивается мнение о том, что она, как и другие члены ее партии в прошлом (речь шла о процессах в 1980-х годах), однозначно не отмежевалась от педофилии (что является отдельным вопросом). Но борьба с одним моральным злом (в данном случае с сексуальным насилием над беззащитными детьми) автоматически не оправдывает использование другого морального зла (такого как оскорбления).
Если отказаться от той идеи, что демократическое правовое государство должно способствовать моральному прогрессу и даже отражать его в поправках к законам или новых правовых системах (регулирующих, например, цифровизацию), можно сразу распрощаться с модерном и с самим демократическим правовым государством, так как его нельзя свести лишь к обозначению определенных избирательных процессов и механизмов.
Вновь и вновь звучат негативные оценки, когда юристы выносят суждения, обоснованные морально, а не чисто юридически. Но такая критика содержит ошибку в аргументации. Ведь мы можем во многом опираться на юридические аргументы лишь потому, что в демократическом правовом государстве они уже были обоснованы морально. Правила игры юридически определенной справедливости не должны вступать в конфликт с моральной справедливостью, так как иначе от нас требовалось бы их изменить.
У национал-социалистов, советских и китайских коммунистов тоже были или есть свои судебные процессы и правопорядки, но мы отвергаем их в том числе потому, что они были или являются аморальными. Если легальность, или юридические аргументы, в конечном счете не основывается на легитимности, или моральных аргументах, то она оказывается морально пуста.
В демократии есть границы толерантности, а также границы свободы слова, взаимосвязанные с достигнутым в обществе уровнем морального познания. К примеру, мы всерьез не обсуждаем, следует ли нам разрешать каннибализм. Многие возможные действия лежат далеко за пределами того, что современное демократическое правовое государство вообще стало бы принимать в расчет. Общественные, социоэкономические, моральные и политические механизмы отбора ведут к ограничению диапазона того, что, с точки зрения общества, действительно стоит обсуждать. Одна из задач нового Просвещения должна состоять в том, чтобы эксплицировать ценностную систему, которую мы институциализировали в форме демократического правового государства. Каждый гражданин должен быть способен привести аргументы в пользу того, что жить в демократическом правовом государстве лучше, чем, например, при Старом порядке XVIII века, преодоленном Французской революцией, не говоря уже о Третьем рейхе или ГДР. Если граждане этого не понимают и не признают доводов в пользу этого, значит, демократии нанесен непоправимый вред, так как она зиждется на исторических событиях, лежащих в основе морального прогресса, – который в таком случае очевидно был недолговечен.
Осмысленные общественные дебаты должны отталкиваться от этого пункта, чтобы дать слово истине и фактам также и прежде всего в области морали. Если бы наша нынешняя государственная конституция была лишь постановлением, решением, которое нельзя было бы обосновать независимо от случайных юридических правил игры, у нас больше не было бы никаких духовных оснований для того, чтобы в рамках соревнования систем защищать идею социальной рыночной экономики и демократического правового государства от неконтролируемого неолиберального глобального капитализма или китайского надзорного коммунизма.
Мораль важнее большинства
Ни в коем случае нельзя признавать притязания любых меньшинств на право голоса и участие в процессах принятия решений. Педофилы, антидемократы, однозначные враги конституции, убийцы и т. д. в силу своей моральной несостоятельности (в каждом случае ее можно разъяснить в деталях) просто не имеют права на защиту от строгости институтов в качестве меньшинств.
Следовательно, если нам по праву и дорога́ защита меньшинств, это не значит, что любое подмножество людей, разделяющее определенное свойство или образ действий, меньшее, чем подмножество, образованное остальными, тем самым уже является меньшинством, заслуживающим защиты. Скорее, меньшинствами, которые следует защищать, в основном являются люди, с которыми явно несправедливо обходились или обходятся, так что их нужно специально поддерживать, чтобы предоставить им полноту моральных и юридических прав, которых их лишали или лишают. К моральным достоинствам демократии относится то, что она дает слово угнетенным меньшинствам, страдавшим от исключения, так как формирование общественного мнения не принимало их в расчет. При определенных условиях это является морально надлежащим делом и притом истинной демократической ценностью, которую пытаются государственно защищать и поддерживать посредством ценности свободы слова.
Но кто заслуживает слова? Кто может с полным правом утверждать, что его угнетают? Так как предоставлять любому меньшинству платформу для свободного высказывания, чтобы включать его мысли и чувства в институциональные процессы демократического волеобразования, – это не позитивная моральная ценность, то есть делать это морально не надлежит, сегодня мы должны в первую очередь поставить вопрос о том, какие границы есть у свободы слова и реструктуризации общественных отношений.
Здесь также играет роль точка зрения некоторых, согласно которой мы должны полностью перевернуть или хотя бы вовсе не признавать свободно-демократический порядок, на котором выстроена Федеративная Республика Германия. Праворадикальные террористы, рейхсбюргеры54 и приверженцы коммунистической диктатуры по примеру Северной Кореи (чтобы назвать лишь несколько однозначных примеров) не относятся к меньшинствам, чьему мнению можно влиять на демократическое волеобразование.
Демократия имеет право и даже морально обязана обеспечивать свою собственную сохранность, так как она покоится на универсально значимом ценностном каноне Просвещения. Его цель состоит в том, чтобы предоставить приемлемые, а в идеальном случае благоприятные институциональные рамочные условия для раскрытия личности каждого человека, мыслимые в рамках моральной легитимности. Здесь действует по крайней мере сформулированный Кантом основной принцип правового государства о том, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, так что всякое вторжение в область действий другого, не позволяющее ему реализовывать себя, должно быть санкционировано 55.
Этим простым аргументом можно устранить парадокс демократии, который гласит, что демократия может не переизбрать саму себя, если квалифицированное большинство решит так. Многие считают, что демократия означает решение большинства. Но это слишком поспешная мысль. Если бы одна партия, к примеру, убедила большинство немцев, что мы должны изгнать мусульман или же обойтись с ними еще более жестоко, или же если бы мы основали новую национал-социалистическую диктатуру решением большинства, эти решения в рамках нашей демократии были бы незаконными и, соответственно, опротестовывались бы со стороны государства. Мораль важнее большинства, таково решающее правило современной демократии, чем она не в последнюю очередь отличается от античной демократии афинян, которые еще не знали этого морального факта и потому принимали довольно жестокие решения.
Только потому, что большинство принимает некое решение, оно не может автоматически быть морально легитимным.
Моральная легитимность в ценностном каноне предшествует политической легальности, что еще далеко не означает, что во всех случаях можно легко определить, какой вариант действий морально легитимен. По этой причине оправданна идея парламентской демократии, которая подчиняет распределение финансовых ресурсов общественному мнению, а равно и дебатам в бундестаге. Цель политических дебатов всегда должна состоять в установлении моральных и неморальных фактов через разногласия, то есть через сопоставление различных мнений и учет экспертизы. Только если бо́льшая часть в равной мере оправданных вариантов действий была признана морально легитимной и политически легальной, решение может приниматься через формирование большинства.
Так что демократия – это ни в коем случае не Anything goes56. Представление о постмодернистском произволе в волеобразовании отдельных групп, из которых состоит народ в смысле демократически легитимированных граждан, глубоко ошибочно и противоречит понятию демократии, определенному в Основном законе.
Культурный релятивизм. Право сильного
Кажется, что существуют более или менее ясно отделенные друг от друга культуры. Проведение границ между культурами при этом часто представляется связанным с границами национальных государств. Принято говорить, к примеру, о немецкой, китайской, американской или русской культуре. Многие также считают, что на протяжении тысячелетий бушует всемирно-историческая борьба культур, которая в XXI веке разворачивается как конфликт культурных регионов, вступивших в обострившееся соперничество из-за глобализации. Эту идею в конце XX века основательно представил преподающий в Гарварде политолог Сэмюэл Ф. Хантингтон, который в книге 2004 года об американской идентичности перенес идею битвы культур на США и, как в наши дни Дональд Трамп, отстаивает англоамериканскую, протестантскую идентичность США и поэтому считает латиноамериканскую иммиграцию проблемой. Эта теоретическая конструкция, помимо прочего, была детально опровергнута также преподающим в Гарварде лауреатом Нобелевской премии мира Амартией Сеном 57.
Особенно заметный пробел в аргументации Хантингтона и других теоретиков борьбы культур состоит в том, что они не поясняют, что составляет культуру, что приводит к инфляционному использованию термина «культура», за которым по более пристальном рассмотрении скрывается не четкое понятие, а ужасная путаница. Хантингтон считает, что существуют большие культурные круги, к примеру, исламский, западный и латиноамериканский. Эти культурные круги, согласно ему, находятся в конфликте, который ведет к войнам. Разумеется, он не приводит никаких религиоведческих и культурно-философских критериев того, как он определяет культуры и отделяет их друг от друга. Так в итоге лишь возникают стереотипы – ложные паттерны мышления, которые подразделяют людей на группы (к примеру, на индуистов и мусульман, европейцев и китайцев, североамериканцев и латиноамериканцев).
Это распределение не соответствует фактам 58. Совершенно неверно, что, к примеру, все европейцы мыслят и действуют одинаково. Европейцы сами довольно разнородны. Это проявляется в том числе на региональных уровнях: Бавария отчасти кажется людям из Северной Германии более культурно чуждой, чем регионы других стран. И даже это стереотип, так как и в Гамбурге есть люди, которые отделяют себя как группу от других групп гамбуржцев. Мысль о том, что люди принадлежат к таким группам, как индуисты или христиане, является абстракцией, которая может приводить к заблуждениям и даже опасностям, если мы считаем возможным понять или даже предсказать действия человека, отнеся его к такой абстрактной группе. Так возникают стереотипы.
Покоящийся на размытом понятии культуры ценностный плюрализм – это широко распространенный враг универсализма. В основе своей он утверждает, что все ценности, в том числе моральные, в конечном счете являются выражением групповой принадлежности. Соответственно, есть, к примеру, немецкие ценности (с такими стереотипами: усердие, честность, педантичность) в отличие от американских, китайских, русских и т. д. В прошлом веке, помимо этого, постоянно шла речь об иудейско-христианских ценностях или ценностях Запада, которые, в частности, должны отличаться от мусульманских ценностей. Тем самым положение вещей становится еще сложнее, так как задача точно определить религиозные системы ценностей, по крайней мере, настолько же сложна, как и разграничить культуры.
Прежде чем мы сможем приступить к задаче опровержения размытого культурного релятивизма, лежащего в основе ценностного плюрализма и ценностного релятивизма, мы должны дать ему голос, чтобы установить, что он, собственно, мог бы утверждать.
Примем следующее допущение: культурный релятивизм – это тезис о том, что все ценности – в том числе моральные – есть не что иное, как выражение групповой принадлежности. Релевантными группами, которые культурный релятивизм избирает себе в качестве отправной точки, являются культуры. То есть он полагает, что ценности относительны по отношению к культурам, которые подразделяют людей на группы. Вообще релятивизм – это теория, которая полагает в отношении определенной области дискурса, что, во‐первых, высказывания в этой области истинны относительно системы допущений, что, во‐вторых, существует множество таких систем и что, в‐третьих, принципиально невозможно занять независимую позицию в вопросе о том, какая система лучше.
С релятивизмом можно мириться в разных вопросах. Тот, кто является релятивистом в отношении человеческого дискурса о красоте, считает, что красота находится исключительно в глазах смотрящего. То, что я нахожу красивым, вы можете считать уродливым и наоборот. Релятивист в вопросах красоты также считает, что нет независимой стороны, которая могла бы быть нам посредником и определить, кто из нас прав. Мои допущения о красоте, наверное, можно было бы объяснить нейробиологически и психоаналитически моими сексуальными преференциями, социологически или как-то еще – историей моей жизни. Возможно, я также всегда считаю красивым лишь то, что советуют другие люди, которые для меня что-то значат. То же самое, согласно релятивисту, касается и вас. Релятивист сводит высказывания о красоте к идиосинкратическим, индивидуально сформированным суждениям вкуса.
В случае моральных ценностей, которые находятся в центре данной книги, культурный релятивист лелеет следующие мнения:
Культурный релятивизм 1. Моральные ценности существуют относительно культуры. Нет абсолютных моральных ценностей.
Культурный релятивизм 2. Существует множество культур, которые никак нельзя уместить под одной всеохватывающей, универсальной культурной крышей.
Культурный релятивизм 3. Не существует независимой от какой-либо культуры, беспристрастной (выходящей за рамки культуры) позиции в вопросе о том, приверженцем какой культуры следует быть.
Релятивисты обыкновенно считают, что культуры пребывают в борьбе, которую нельзя унять указанием на моральные ценности, так как эти ценности пребывают в непримиримом противостоянии так же, как и сами культуры. В этой культурной борьбе никакой вышестоящий моральный порядок не учитывается; релятивисты считают его иллюзией, так как для них мораль – это в лучшем случае нечто, что полагает для самой себя одна из многих культур. Моральное уважение врага в культурной борьбе в лучшем случае ведет к сдаче позиций в соревновании систем и поэтому отвергается культурными релятивистами (будь то левого или правого политического образца).
Настроение этого мировоззрения выражает вымышленный президент США по имени Фрэнк Андервуд в сериале «Карточный домик» от Netflix: «Справедливости не существует, есть лишь достижения» (There is no justice, only conquest). Конечно, эта идея гораздо старее, чем Netflix, и ее отстаивали не только вымышленные президенты. К сожалению, она господствует в настоящем, совсем не вымышленном Белом доме наших дней, где обосновалась республиканская партия, ведущая, по своему собственному мнению, непримиримую культурную борьбу с равно непримиримой демократической партией.
Первое ясное изложение и обоснование идеи права сильного, к которой, в частности, регулярно обращается Трамп, приписывается Фрасимаху, оратору из главной политической работы Платона «Государство». Согласно Фрасимаху, справедливо (справедливость – dikaiosynê – в античности была именем высшей моральной ценности) то, что некто, победивший в борьбе, выдает за справедливое. В первой книге «Государства» Сократ вначале беседует с неким Полемархом о политических идеях, пока их не перебивает Фрасимах, известный софист. У Платона софисты предстают демагогами, даже в какой-то мере изобретателями фейковых новостей, ораторское мастерство которых состоит в том, чтобы с помощью искусной риторики сплести из слабого аргумента сильный, чтобы тем самым одолеть противника пустой болтовней 59.
В «Государстве» Платона Сократ как раз развивает универсальное понимание справедливости, когда выскакивает Фрасимах: «Что вы строите из себя простачков, играя друг с другом в поддавки?»60 Таким образом, Фрасимах упрекает Сократа в том, что он гутменш61 (как сегодня некоторые ужасно это называют), и хочет быстро разобраться с темой справедливости. Недолго думая, он приходит к следующему определению справедливости:
Так слушай же. Справедливость, утверждаю я, это то, что пригодно сильнейшему62.
В пользу этого он приводит аргумент, который сегодня совсем не исчез, а скорее празднует веселое возрождение на мировой арене: он допускает, что государственная власть есть не что иное, как способность правительства достигать своих целей, правительство же определяется одной из форм правления, среди которых Фрасимах выделяет диктатуру (tyrannis), аристократию и демократию.
Устанавливает же законы всякая власть в свою пользу: демократия – демократические законы, тирания – тиранические, так же и в остальных случаях. Установив законы, объявляют их справедливыми для подвластных – это и есть как раз то, что полезно властям, а преступающего их карают как нарушителя законов и справедливости. Так вот, я и говорю, почтеннейший Сократ: во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти. А ведь она – сила, вот и выходит, если кто правильно рассуждает, что справедливость – везде одно и то же: то, что пригодно для сильнейшего63.
Идею права сильного можно найти в различных вариантах на протяжении тысячелетий. Она служит не только политикам правого спектра для оправдания применения силы, но представлена так же ярко и с левой стороны. Карл Маркс также связывает представления о морали с классами, между которыми, как известно, с его точки зрения, идет борьба 64.
Как и античных софистов, сегодняшних левых и правых активистов в основном не интересует истинность их мнений, их цель – сначала риторически одержать верх в борьбе и затем путем занятия должностей добиться власти, дабы в итоге посредством чисток в идеале полностью уничтожить своего противника, в чем заключается суть политического экстремизма, неважно, какой масти.
Тот, кто считает право сильного основанием для вынесения моральных суждений о ценностях, оставил мораль далеко позади. Если бы моральные ценности были не чем иным, как выражением классовой, половой, поколенческой, партийной или культурной принадлежности, в действительности не было бы вообще никаких моральных ценностей. Тогда дело было бы лишь в том, чтобы победить в политической борьбе, произнося при этом красивые в моральном плане речи, чтобы выставить себя на светлой стороне истории и скрыть насилие, с помощью которого приходят к власти и удерживают ее.