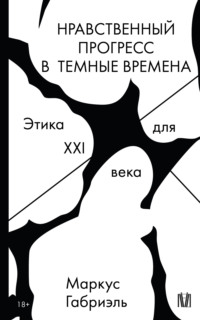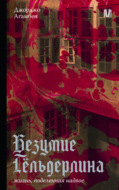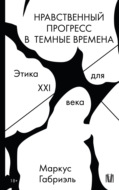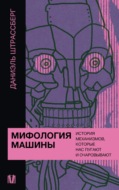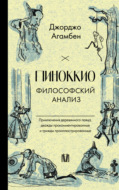Buch lesen: "Нравственный прогресс в темные времена. Этика для XXI века", Seite 3
Глава 1
Что такое ценности и почему они универсальны
В данной главе речь пойдет об основных этических понятиях нового Просвещения, которые вытекают из нескольких ключевых тезисов. Ключевые тезисы Нового Морального Реализма35 гласят:
Ключевой тезис 1. Существуют независимые от наших личных и групповых мнений моральные факты. Они существуют объективно.
Ключевой тезис 2. Существующие объективно моральные факты в своей сути познаваемы через нас, то есть они связаны с сознанием. Они касаются людей и представляют собой моральный компас того, что мы должны делать, имеем право делать или должны предотвращать. В своей основе они очевидны и в темные времена скрываются идеологией, пропагандой, манипуляциями и психологическими механизмами.
Ключевой тезис 3. Объективно существующие моральные факты имеют силу во все времена, в которые существовали, существуют и будут существовать люди. Они не зависят от культуры, политического мнения, религии, пола, происхождения, внешнего вида и возраста и потому универсальны. Моральные факты не дискриминируют.
Ключевой тезис 1 я буду называть моральным реализмом. Тезис номер 2 рассматривает нас, людей, как тех свободных живых существ, которым предъявляются моральные требования. Поэтому я называю его гуманизмом. Наконец, номер 3 обычно обозначают как универсализм 36.
В качестве броского слогана этой главы мы можем противопоставить друг другу концепты двух вымышленных государств. Первое я назову ПРН. «П» означает плюрализм, «Р» – релятивизм, а «Н» – нигилизм. Сочетание ценностного плюрализма, релятивизма и нигилизма я считаю злом, так как под ними в целом понимается идея, что моральные кодексы, то есть ценностные системы возникают и поддерживаются просто из-за того, что им следует более или менее произвольная группа людей. Согласно этой модели, ценности – это догматы веры, которые сплачивают группу, и поэтому их значение ограничивается только этой группой.
Примером тому могут служить ценностные представления евангелических, христианско-фундаменталистских общин, которые считают морально неправильными аборт в любой форме, а равно и потребление алкоголя, однополый секс и даже кофе с чаем, так как они якобы неприемлемы в глазах Бога. Многие христианско-фундаменталистские группы, например, Свидетели Иеговы37, также верят, что существуют лишь некоторые избранные люди, к которым обращается Бог со своими моральными требованиями. Большинство людей в их глазах с самого начала прокляты и либо будут гореть в аду, либо их просто уничтожат.
Менее радикальна (но столь же ложна) идея, что существуют «немецкие» ценности, такие как пунктуальность и точность, которые, например, не действуют в Италии, где не следят за минутной стрелкой на часах и не придают большого значения тому, чтобы осуществлять трудовые процессы с немецкой точностью. Это представление имеет фатальные последствия: когда Италия во время кризиса коронавируса настоятельно нуждалась в логистической и финансовой помощи других европейских стран, чтобы справиться с перегрузкой своей системы здравоохранения из-за случаев тяжелого протекания COVID-19, ее европейские партнеры вначале отказывались предлагать эту помощь. В Германии часто можно было услышать, что проблема Северной Италии – это как раз результат культурного дефицита – «итальянского хаоса», не иначе. Морально неприемлемый, очевидно ложный стереотип. Неверно, что в ходе пандемии коронавируса северно-итальянская система здравоохранения достигла пределов своих возможностей по каким-то культурным причинам. Ужасная трагедия в Северной Италии и других местах – это не выражение местных культурных проблем, так же хорошо ее можно было бы объяснить логикой распространения вируса, которая до сих пор не была известна, так как отсутствовали соответствующие данные и исследования. То, что в Германии на жителя приходится больше кроватей для интенсивной терапии, чем в Италии, связано не с некими «немецкими ценностями», а с организацией нашей системы здравоохранения и нашего лучшего распределения государственного финансирования. Националистической бессмыслицы можно избежать, если мы проявим моральную проницательность, без которой не может быть никакой этики, никакого рационального изучения моральных фактов.
В противовес ПРН новое Просвещение отстаивает идеал Республики Гуманистических Универсалистов (РГУ), морально-философская конституция которой, как мы увидим, на удивление во многом соответствует нашему Основному закону38. «Р» означает здесь реализм, «Г» – гуманизм, а «У» – универсализм.
Основной закон последние семьдесят лет также способствовал прогрессу, потому что он появился в результате этого темного времени. Даже национал-социалистическая диктатура не смогла полностью задуть огни Просвещения. Это не призыв к немецко-националистическому воспеванию самих себя и не апология безобидного конституционного патриотизма, а указание на положение дел, которое возникло как реакция на глубочайшую пропасть в немецкой истории.
Основной закон для Федеративной Республики Германия формулирует ценностный каталог с универсальным требованием, которое касается не только немецких граждан (очевидных адресатов этого текста), но и всех людей. Это ни в коем случае не ценностно-нейтральное основание, на котором разворачивается политическая партийная борьба, результатом которой может стать даже упразднение демократии. Поэтому наш сегодняшний ценностный кризис – это одновременно и кризис демократии: выступающий против универсализма обращается и против идеи, что наше единство основывается на том, что все мы люди, которые тем самым уже имеют определенные права и обязанности. К ним относятся право на свободное развитие нашей личности, право на жизнь и телесную неприкосновенность, равноправие полов, право на то, чтобы не быть ущемленным в суде на основании пола, языка, происхождения, дохода и т. д.
Легко упускают из виду, что из наших основных прав следуют обязанности: тот, кто, к примеру, имеет право не быть ущемленным на основе расистских стереотипов или гомофобии, именно поэтому обязан никого таким образом не ущемлять. Эти основные права должны обеспечивать нам наши человеческие права. К правам человека относится многое, чего мы не кодифицировали в правовой форме: право на жилище, право на охрану окружающей среды (которая позволяет нам дышать достаточно чистым воздухом, соответствующим нашему благосостоянию как людей), право на свободное время, право на пенсию и вообще все, благодаря чему мы можем жить в солидарном сообществе, целью которого является содействие моральному прогрессу и сотрудничеству.
В данной главе я приведу аргументы в пользу того, что моральные факты не обосновываются ни Богом, ни всеобщим человеческим разумом и ни эволюцией, но самими собой. Как и многие другие факты, они нуждаются не в обосновании, а в познании, которое позволяет выявить их контуры. Существуют моральные самоочевидности, к примеру: тебе не следует терзать младенцев. Никто, будь то китаец, немец, русский, африканец или американец, будь то мусульманин, индуист, атеист и т. д., всерьез в этом не усомнится. Есть очень много таких моральных самоочевидностей, которые непосредственно понимают все люди – что мы упускаем из виду, так как в моральных вопросах нас в основном занимают сложные, комплексные моральные проблемы, в которых человеческие общности, кажется, расходятся друг с другом.
Не существует морального алгоритма, правила и системы правил, которые раз и навсегда решили бы все моральные проблемы.
Это можно проиллюстрировать на примере. До недавнего времени многие люди думали (а многие все еще думают), что совершенно нормально и даже надлежаще и желательно подвергать детей телесным наказаниям. Возможно, в прошлом даже некоторые дети думали, что это было им во благо, потому что их изо дня в день в этом убеждали, указывая на мнимые факты. Телесное наказание, как люди могли думать, хотя и неприятно, но осмысленно точно так же, как, например, вакцинация от гриппа. Но начавшие появляться лишь во времена модерна дисциплины научной психологии, социологии, религиоведения и нейробиологии теперь уже показали нам, что телесное наказание травматизирует и что насилие и жестокость в семье даже являются важным основанием для тоталитарных режимов, которые строятся на домашнем насилии.
Конечно, в принципе представимо, хотя и, разумеется, крайне маловероятно, что через пятьдесят лет появятся знания, которые покажут, что телесные наказания все же значительно способствуют зрелости и что по сегодняшним критериям мягко воспитанные дети склонны к брутальному капиталистическому, разрушающему мир потреблению, так что мы снова должны взяться за розги. Но даже если бы вышло так, будущие доводы, которые дали бы нам основание для телесных наказаний, были бы совсем другими, чем те, что мы имели в прошлом, так как тогда были неизвестны факты, которые только еще предстояло открыть.
Из того, что мы можем заблуждаться в моральных вопросах, не следует, что морального прогресса не существует.
Задача этой первой главы состоит в том, чтобы развить три ключевых тезиса реализма, гуманизма и универсализма и защитить их, в частности, от ценностного плюрализма, релятивизма и нигилизма, то есть от ПРН. Чтобы дать вам обзор хода размышлений и с самого начала устранить некоторые возможные недопонимания, я хотел бы сначала вкратце объяснить, о чем именно говорит ПРН.
Ценностный плюрализм предполагает, что в морали действует принцип: другие страны – другие нравы. Каждая страна носит отпечаток культуры, которая имеет свой собственный моральный кодекс, и некоторые страны образуют группы, которые могут коммуницировать друг с другом. Так Запад в отличие от Востока или Европа в отличие от Африки предстают в качестве ценностных порядков. Точно так же, как подразделяют территории, им таким образом приписывают и различные системы ценностей: заблуждение заключается в допущении, что существуют отдельные друг от друга системы ценностей. Это допущение быстро приводит к (опровержимому) допущению несоизмеримости, то есть представлению о том, что существуют радикально отличные друг от друга и несопоставимые по одной мерке моральные системы.
Ценностный плюрализм автоматически не ведет к мысли о несоизмеримости. Он в первую очередь является своего рода этнологическим утверждением: на основании изучения ценностных представлений, обнаруживаемых в разных местах, он допускает, что существует множество ценностных представлений. Из этого еще не следует, что ни одна из данных систем не является лучше или правильнее. Можно быть ценностным плюралистом и одновременно утверждать, что твоя собственная система ценностей превосходит все остальные, быть может, даже является единственно правильной. Ценностный плюралист мог бы сказать, что подавляющее большинство ценностных представлений в равной мере ложны. Из существования различных систем мнений само по себе не следует, что ни одно из них не будет считаться правильным.
Ценностный релятивизм делает еще один шаг и допускает, что морально предпочтительное и морально неприемлемое всегда имеют силу только в соответствующих, несоизмеримых системах ценностей. Не существует никакого всеохватного порядка, который устанавливал бы, какая система морально лучше другой. Если систему вообще выбирают, то точно не по моральным критериям. Для ценностных релятивистов, тем самым, не существует никакого добра и зла самих по себе, но всегда лишь добро и зло по отношению к одной из многих систем ценностей, так что их представители, строго говоря, не могут оценивать и друг друга по независимому критерию.
Если, например, приверженец Путина в Санкт-Петербурге поносит либеральную демократию и считает ее признаком разложения Запада, тогда как ценностный релятивист из Нидерландов считает либеральную демократию добром именно за то, что при демократии может сосуществовать сколько угодно систем ценностей, согласно релятивистам, никто из них объективно не прав. С их точки зрения, они оба лишь высказывают то, что имеет силу в их системах, и причем в обоих случаях, согласно релятивистам, совершенно не ошибаются. Столкновение ценностных систем для релятивистов ведет уже не к морально контролируемой, этической дискуссии, но к соревнованию систем и конкретным битвам за геополитическую прерогативу толкования.
Наконец, ценностный нигилизм выводит из всего этого положение, что вообще не существует определяющих наши поступки ценностей. Он считает ценности в целом лишь болтовней, за которой ничего не скрывается, то есть в лучшем случае предлогами, используемыми, чтобы определенные группы могли достичь преимущества перед своими конкурентами.
Я хочу убедить вас в этой главе в том, что все три допущения ложны, и одновременно развить альтернативную точку зрения, направленную против постмодернистского, постфактического духа времени, которому так хорошо подходит ПРН.
Существуют моральные факты, которые предписывают, что мы должны делать и от чего – воздерживаться. В целом, факт – это нечто истинное. Факты – это, к примеру, то, что Гамбург находится в Северной Германии; что 2 + 2 = 4; что вы прямо сейчас читаете это предложение и т. д. Моральные факты в отличие от этих описаний действительности охватывают в основном требования, которые предписывают, что что-то нужно делать, а от чего-то – воздерживаться. Моральные факты – это, к примеру, то, что нельзя мучить детей; что нужно защищать окружающую среду; что ко всем людям нужно по возможности относиться одинаково (неважно, как они выглядят, откуда происходят, какую религию исповедуют); что не следует лезть вперед без очереди; или что нужно помогать людям, чью жизнь можем спасти лишь мы одни, в той мере, в которой это не подвергает нас самих опасности. Моральный факт – это объективно существующее моральное положение дел, которое определяет, какие конкретные действия являются надлежащими, дозволенными или недопустимыми. Моральные факты могут существовать без того, чтобы их правильно познавали или даже им следовали. В повседневности многие агрессивно лезут вперед без очереди, будь то на автотрассе или в супермаркете, и, к сожалению, с многими детьми плохо обращаются и в нашей стране, истязая их. Если есть такие моральные факты, то они начинают существовать не лишь тогда, когда мы к ним обращаемся, и уж точно не оттого, что мы их как-то изобретаем или договариваемся о них.
Моральные факты – это не общественные компромиссы и не культурные конструкты, так как они существуют sui generis39и поддаются оценке по универсальным ценностным критериям, которые можно ввести, чтобы на более высоком уровне оценить компромиссы и культурные конструкты. Моральные факты имеют силу вне культурных и временных рамок, что не значит, что не бывает сложных или новых моральных вопросов, как мы еще увидим (см. ниже, со с. 138). Задача моральных размышлений о том, что мы должны делать, а от чего должны отказываться, как и о том, что является опциональным (то есть о том, что мы можем сделать или от чего мы можем отказаться, не нарушив тем самым моральный порядок), заключается в том, чтобы совместно выяснить, каковы релевантные моральные факты. Таким образом, в моральных размышлениях речь идет о том, чтобы убедить самих себя и других в том, как правильно поступать, а не о том, как уговорить других принять наше, управляемое предрассудками и интересами восприятие социальной ситуации.
The Good, the Bad and the Neutral40. Основные правила морали
Прежде чем мы сможем разобрать конкретные моральные вопросы нашего времени на примерах, мы должны прояснить еще пару понятий. Ведь когда наши понятия неясны и размыты, мы легко допускаем логические ошибки. Тогда нам не удается сформулировать хорошо обоснованные, а в лучшем случае – истинные и когерентные мнения. Особенно плохо это в области практической философии, в которой речь идет о наших поступках, так как это влечет последствия в нашем жизненном мире. Когда у нас есть лишь размытое представление о счастье, морали, обязанностях и правах, именно тогда мы чересчур легко допускаем ошибки, так как мы не учитываем базовых определений этих понятий. Одной из основных задач философии поэтому является прояснение понятий, которое не позднее чем с Иммануила Канта было тесно связано с современным идеалом Просвещения.
Этика – это философская дисциплина, которая с появления ее понятия у Платона и Аристотеля систематически занимается вопросом о том, в чем суть хорошей, удавшейся жизни. В традиции эту хорошую, удавшуюся жизнь или же подобный успешный период жизни называли «блаженством»41 (eudaimonia), или, как проще говорят сегодня, «счастьем». Первая систематическая рациональная этика, возникшая с претензией на научность, то есть этика Аристотеля, поэтому является прежде всего попыткой изучения счастья. Слово «этика» происходит от древнегреческого êthos42, спектр значений которого включает в себя «место пребывания», «место жительства», «обычай», «привычку», «характер» и «образ мыслей». Поэтому изучение êthos’а издревле занимается и формированием человеческого характера, чтобы, исходя из него, ответить на вопрос, как мы можем достичь блаженства и пребывать в нем вопреки превратностям и сложностям жизни и выживания.
От этого следует отличать мораль как ответ на вопрос, что люди должны делать в целом, а равно и в конкретной ситуации. Конечно, в других областях координации человеческих действий также есть нормы и санкции, в частности в форме права. Универсальные ценности всеобщей этики – это форма норм, однако есть и другие нормы, взаимосвязанные с этическими, но руководящие по большей части областями нейтральных действий, регулируемых не морально. К ним относятся правила дорожного движения, а равно и эстетические нормы, которые касаются оценки определенного жанра искусства (например, оперы). То, какой вид искусства мы предпочитаем, – это не морально нагруженная проблема. Если кому-то «Карточный домик» нравится больше, чем «Фиделио» Бетховена, это не добро и не зло (даже если это и свидетельствует о дурном вкусе).
Теория норм шире философской этики. Правовые нормы, к примеру, автоматически не имеют морального значения. В случае государства, с моральной точки зрения являющегося несправедливым, морально неприемлемо следовать его правовым нормам. Но как в демократических правовых государствах, так и в государствах морально сомнительных есть нормы права, которые морально нейтральны: пешеход, переходящий ночью пустую улицу на красный свет, ни в коем случае не совершает моральную ошибку – в отличие от кого-то, кто гоняет по ночным пустым улицам города на своей машине, так как есть риск, что он собьет кого-то, не заметив его.
Мораль и право, таким образом, связаны друг с другом, но далеко не равнозначны. Действие правовых норм, их власть над акторами, сохраняется, даже если фактическое правоприменение и лежащие в ее основании законы явно аморальны. Сталинские показательные процессы были легальны с правовой точки зрения, даже если мы считаем их морально нелегитимными. Таково основополагающее различие между легальностью и легитимностью.
Мораль артикулирует правила, которые устанавливают конкретно, какие поступки являются запретными, какие – надлежащими, а какие – дозволенными. Таким образом можно абстрактно выделить две крайние точки, два полюса, и моральную середину. Бесспорно морально запретное – это зло. Так, от злых поступков необходимо воздерживаться при любых обстоятельствах. Бесспорно морально надлежащее – это добро. Центр этого морального спектра – это дозволенное. Поскольку дозволенное – не добро и не зло, оно просто дозволено, я называю его нейтральным (от лат. ne-uter, «безразличное», «ни одно из двух»). Нейтральное располагается не по ту сторону добра и зла, но, так сказать, по эту сторону, не являясь ни тем, ни другим. Добро как крайняя точка на моральной шкале, то есть бесспорно надлежащее, в этом смысле не является дозволенным, потому что нечто дозволено, если это можно делать или воздерживаться от него. Но от добра нельзя воздерживаться. Оно есть морально необходимое – то, чему нет никакой действительной альтернативы. Суть добра такова, что любая альтернатива ему хуже его самого.
Разумеется, не все человеческие поступки очевидно и однозначно добры, нейтральны или злы, так как это всего лишь три центральных ориентира в моральном спектре. Поэтому, чтобы охватывать пространство морального более общо, далее я буду говорить в основном о морально надлежащем, дозволенном и неприемлемом.
Морально надлежащее – это то, что до́лжно делать в данной ситуации (но не автоматически в любой ситуации)43. Морально дозволенное – это все то, что можно делать в данной ситуации, хотя делать это не до́лжно или не обязательно. В любой ситуации дозволено многое, не имеющее морального значения. Морально неприемлемое – это то, от чего в данной ситуации (но не автоматически в любой ситуации) до́лжно воздерживаться 44.
Одним из центральных понятий этой книги являются ценности. В целом, ценности – это критерии оценки. В особом случае универсальных, касающихся нас как людей возможностей действия существуют моральные ценности: в той мере, в которой мы, применяя ясные критерии, морально оцениваем фактически совершенные или возможные в свете фактов действия, мы прибегаем к моральным фактам. Оценивание действий в свете того, попадают ли они в область добра, нейтрального или зла, опирается на моральные и неморальные факты и с помощью фаллибельного притязания на знание (falliblen Wissensanspruch) определяет их в одну из этих ценностных областей.
Притязание на знание фаллибельно, то есть подвержено ошибкам, если в нем утверждается нечто, что вполне может быть ложным, и нет никаких необходимых оснований для его принятия. Большая часть притязаний на знание фаллибельны, так как мы никогда не знаем всех обстоятельств, чтобы быть совершенно уверенными в наших суждениях. Я считаю, к примеру, что Ангела Меркель сейчас в Берлине. Но я вполне могу и заблуждаться.
Чем сложнее действительность, о которой мы хотели бы нечто выяснить, тем вероятнее, что даже наши самые подкрепленные притязания на знания в итоге окажутся ложными. В моральных вопросах все так же, так как и в них речь идет о том, как устроена действительность. Мы хотим выяснить, что мы должны делать в сложной ситуации, а не произвольно определить варианты действий.
Моральные ценности универсальны. Они касаются всех людей, везде и во все времена, даже если не всем людям это обязательно всецело ясно. Поэтому мы можем заблуждаться относительно ценностей. Из того, что они универсальны, не следует, что каждый всегда осознает их.
В первую очередь, моральные ценности отличаются от экономических. Экономические ценности измеряются на бирже, в валютах и банками. Они выражают результаты переговорных процессов, взаимосвязанных с производством товаров и товарообменом. Экономические ценности не имеют универсального и вневременного значения. Кроме того, в области экономики действуют отчасти очень аморальные правила игры, так как выгоду и прибыль обыкновенно достигают, целенаправленно причиняя другим людям убытки или по меньшей мере утаивая от них выгодную информацию.
В благом обществе с помощью политических мер, выраженных в правовом регулировании, стремятся к правильной иерархии между моральными и экономическими ценностями, так что, к примеру, правовое государство в идеальном случае заботится о том, чтобы производство товаров и товарообмен не нарушали минимальных моральных стандартов. В таком случае этика стоит выше приращения экономической стоимости, и аморальный экономический рост считают хуже рецессии. Так, торговля людьми запрещена в Германии и во многих других странах, более того, у нас есть минимальная оплата труда, всеобщее медицинское страхование, как и другие социалистические меры, нужные чтобы не все и вся подчинялось правилам рынка. Когда, напротив, правят лишь экономические ценности, мы оказываемся в аморальной, дурной форме общества – такую отчасти можно наблюдать в США, но в деталях ее можно обнаружить и в Германии, а присмотревшись повнимательнее – в конечном счете всюду. Прежде всего, в США доллар значит больше, чем здоровье людей, которые попросту не могут обеспечить себя медицинской помощью.
Конечно, экономические ценности необходимы для воплощения моральных ценностей, на что, в частности, указала американский философ Марта Нуссбаум 45. Мораль и экономика не обязаны и не должны друг друга исключать. Но это предполагает, что в просвещенном обществе постановка экономических целей подчиняется моральным принципам. Морально неприемлемые экономики безусловно должны отвергаться – это обстоятельство, которое в идеальном случае отражается в построении экономических теорий и их политическом воплощении в рыночной экономике.
Известное высказывание из «Трехгрошовой оперы» Бертольта Брехта «Сначала хлеб, а нравственность – потом»46, тем самым, истинно лишь наполовину: моральные притязания могут быть реализованы только в том случае, если мы создадим экономические предпосылки для них, так как мы не можем требовать от людей в целом, чтобы они при любых обстоятельствах вели себя как герои. Наоборот, задача экономики в том, чтобы создать условия, при которых моральные поступки были бы возможны и без героизма, то есть совершенно обыденны и доступны для всех людей.
Однако из этого следует, что экономика должна преследовать моральные цели, а не наоборот. Мораль не подчиняется логике рынка, логика рынка, тем не менее, должна ориентироваться на вышестоящие цели просвещенного общества, нацеленного на моральное познание и моральный прогресс. В противном случае логика рынка срывается с цепи, и это ведет к моральным проблемам, которые неудержимо разрастаются – к чему относится справедливо критикуемое распространение плутократии, то есть власти денег, которая особенно драматически охватывает США и Россию.