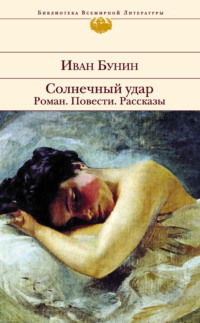Buch lesen: "Солнечный удар. Роман. Повести. Рассказы"
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
* * *
Как ни грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен…
И. Бунин
Иван Бунин
Еще в гимназии я начал зачитываться Буниным. В то время я мало знал о нем. Кое-что я узнал из автобиографической заметки, написанной самим Буниным для «Словаря писателей» Венгерова. Там было сказано, что Бунин провел свое детство в деревне, где-то между Ельцом и городком Ефремовом (в тогдашней Тульской губернии), а потом учился в Елецкой гимназии.
В холодном апреле 1916 года я впервые приехал в Ефремов к родственнице – одинокой старушке. Она звала меня погостить у нее и отдохнуть после моих скитаний по югу.
Старушка учительствовала в Ефремовской городской школе. Как все учительницы, она часто болела ангиной. Лечилась она всякими способами, даже по «знахарскому методу Бунина».
– Какого Бунина? – спросил я удивленно.
– Евгения Алексеевича. Брата писателя. Он служит у нас в Ефремове в акцизе. Открыл способ лечить ангину. Натирает шею сухой беличьей шкуркой, и ангина тотчас проходит. Только мне не помогла эта шкурка. А Евгений Бунин – деловой и довольно суховатый господин. Вот брат его Иван, писатель, говорят, человек прелестный, замечательный. Он иногда сюда приезжает.
С той минуты, как я узнал, что здесь бывает Бунин, Ефремов сразу преобразился для меня, хотя вообще-то был городком достаточно унылым. Теперь же он представлялся мне воплощением российского провинциального уюта.
Почти все наши захолустные города были схожи друг с другом. Все они, по словам Чехова, были «типичными Ефремовыми» – с запущенными монастырскими подворьями, с землистыми лицами угодников над каменными вратами церквей, с заливистыми колокольцами на тройке исправника, с острогом на выгоне, земским собранием – единственным домом, где у подъезда горел калильный фонарь, с крикливыми галками на кладбищенских липах и глубокими оврагами. Летом в них стенами стояла глухая крапива, а зимой на сером от золы снегу сизо чадили головешки, выброшенные из печей и самоваров.
Тогда, в Ефремове, вошла в меня бунинская Россия и завладела мною надолго.
Елец был рядом. Я решил съездить туда, чтобы посмотреть этот бунинский город.
С ранней юности у меня была неистребимая страсть посещать места, связанные с жизнью любимых писателей и поэтов. Лучшим местом на земле я считал (и считаю до сих пор) холм под стеной Святогорского монастыря на Псковщине, где похоронен Пушкин. Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, нет больше нигде в России.
Из Ефремова до Ельца ходил рабочий поезд, так называемый «Максим Горький». Я поехал на нем в Елец.
Холодный рассвет застал меня в дребезжащем, старом вагоне. Я сидел под мигающей свечой и читал в растрепанной книжке журнала «Современный мир» бунинский рассказ «Илья Пророк».
По своей пронзительной горечи рассказ этот – один из лучших в русской литературе. Каждая подробность, каждая черта этого рассказа (даже «бледные, как саван, овсы») щемила сердце предчувствием неизбежной беды, нищенством, сиростью, тяжким уделом тогдашней России. От этой России временами хотелось бежать без оглядки. Но редко кто на это решался. Ведь нищенку мать любят и в горьком ее унижении.
Бунин тоже ушел от своей единственно любимой страны. Но ушел только внешне. Человек необыкновенно гордый и строгий, он до конца своих дней тяжело страдал по России и пролил по ней много скупых и скрытых слез в чужих ночах Парижа и Граса – слез человека, добровольно изгнавшего себя из отечества.
Я ехал в Елец. Тощие зеленя тянулись за окнами вагона. Ветер насвистывал в жестяных вентиляторах, гнал низкие тучи. Я перечитывал «Илью Пророка», перечитывал скорбную историю Ивана Новикова, крестьянина Елецкого уезда, Предтеченской волости. И старался понять – как, какими словами, каким волшебством достигнуто это подлинное чудо? Чудо создания короткого и сильного, горестного и великолепного рассказа?
В Ельце я не остановился в гостинице. Для этого я был слишком беден. До вечера, когда отходил обратный поезд в Ефремов, я бродил по городу и очень, конечно, устал.
Был серый высокий день. Пошел неожиданный, запоздалый снежок. Ветер сдувал его с мостовых, обнажая каменные, избитые подковами белые плиты.
Город был весь каменный. Чудилось в этом его каменном обличии что-то крепостное. Оно чувствовалось и в пустынности улиц и в их тишине. Я слышал, что Елец всегда был торговым шумным городом, и удивлялся этому городскому покою, пока не понял, что тишина и малолюдие – следствие войны.
Елец был действительно крепостью. Бунин в «Жизни Арсеньева» говорил о нем:
«…город гордился своей древностью и имел на это право: он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей Подстепья, на той роковой черте, за которой некогда простирались «земли дикие, незнаемые», а во времена княжеств Владимирского – Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч».
Почти каждое слово в этом отрывке доставляет наслаждение своей простотой, точностью, образностью. Чего стоят только одни слова о том, что эти древние города вдыхали бурю и свист караульных, грохот колотушек по чугунным доскам, призыв всех на городские валы.
Я долго простоял около здания мужской гимназии с каменным двором. В этой гимназии учился Бунин. Внутри было тихо, – за окнами шли уроки.
Потом я прошел через базарную площадь, удивляясь обилию запахов. Пахло укропом, конским навозом, старыми сельдяными бочками, кожей, ладаном из открытых дверей церкви, где кого-то отпевали, пахло палым, уже перебродившим листом из садов за высокими серыми заборами.
Я напился чаю в трактире. Там было пусто и холодно. Из трактира я пошел на окраину города. До поезда оставалось еще много времени. На окраине – уходящем в низину длинном и голом выгоне – чадили и звенели от ударов по наковальням кузницы. Над выгоном белело небо. Рядом тянулась кладбищенская стена.
Я зашел на кладбище. Чуть позванивали и скрипели от ветра побитые фарфоровые розы и жестяные заржавленные листья на погребальных венках. Кое-где на железных, с витиеватыми завитушками крестах с облупившейся масляной краской виднелись коричневые, почти смытые дождем фотографии в металлических медальонах.
К вечеру я пришел на вокзал и долго сидел в тускло освещенном зале третьего класса, где воняло керосином и дуло холодом по ногам.
У каждого в жизни бывают странные – порой приятные, порой печальные – совпадения. Были они и у меня. Но самое удивительное совпадение случилось в этот вечер на Елецком вокзале.
Я купил в газетном киоске сырой номер «Русского слова». В зале третьего класса из-за темноты читать было трудно. Я пересчитал свои деньги. Их хватало на то, чтобы напиться чаю в ярко освещенном вокзальном буфете и даже дать подвыпившему официанту на чай.
Я сел в буфете за стол около пустого мельхиорового ведра для шампанского и развернул газету…
Опомнился я только через час, когда вокзальный швейцар, мотая колокольчиком, прокричал нарочито гнусавым голосом: «Второй звонок на Ефремов, Волово, Тулу!»
Я вскочил, бросился в вагон и просидел, забившись в угол около темного окна, до самого Ефремова.
Все внутри меня дрожало от печали и любви. К кому?
К дивной девушке, к убитой вот на этом вокзале гимназистке Оле Мещерской. В газете был напечатан рассказ об этом – Бунина «Легкое дыхание».
Я не знаю, можно ли назвать эту вещь рассказом? Это не рассказ, а озарение, самая жизнь с ее трепетом и любовью, печальное и спокойное размышление писателя, эпитафия девичьей красоте.
Я был теперь уверен, что проходил на кладбище мимо могилы Оли Мещерской, а ветер робко позванивал в старом венке, как бы призывая меня остановиться.
Но я прошел, ничего не зная. О, если бы я знал! И если бы мог! Я бы усыпал эту могилу всеми цветами, какие только цветут на земле. Я уже любил эту девушку. Я содрогался от непоправимости судьбы.
За окнами дрожали, погасая, редкие и жалкие огни деревень. Я смотрел на них и наивно успокаивал себя тем, что Оля Мещерская – это бунинский вымысел, что только склонность к романтическому приятию мира заставляет меня страдать из-за внезапной любви к этой погибшей девушке.
Пожалуй, в эту ночь, в холодном вагоне, среди черных и серых полей России, среди шумящих от ночного ветра, еще не распустившихся березовых рощ, я впервые до конца, до последней прожилки, понял, что такое искусство и какова его возвышающая и вечная сила.
Я несколько раз разворачивал газету и перечитывал при умирающем огне свечи, а потом при водянистом свете бездомной зари все одни и те же слова о легком дыхании Оли Мещерской, о том, что теперь это легкое дыхание «снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».
* * *
Второй съезд советских писателей встретил овацией слова о том, что Бунин должен быть возвращен русской литературе.
И он был возвращен. Были возвращены на родину драгоценнейшие бунинские вещи, и в их числе повесть «Жизнь Арсеньева».
Об этой повести писать трудно, почти невозможно. Так же, как и о самом Бунине. Он так богат, так щедр, так многообразен, так беспощадно и точно видит любого человека, от господина из Сан-Франциско до плотника Аверкия, видит каждый жест и каждое душевное движение, так удивительно ясно, одновременно – строго и нежно говорит о природе, неотделимой от течения человеческих дней, что писать об этом, как говорится, «из вторых рук» бесполезно и почти бессмысленно.
Бунина надо читать, читать самому и навсегда отказаться от жалких попыток рассказывать не бунинскими, обыденными словами о том, что написано им с классической силой и четкостью.
Нельзя рассказать своими словами «Ненастный день потух» Пушкина, «Над вечным покоем» Левитана или «По синим волнам океана» Лермонтова. Это так же бесполезно, как поверять сухой алгеброй гармонии Моцарта и всех великих композиторов от XIV века до Стравинского. Поэтому я не буду делать попыток, заранее обреченных на неудачу, пересказывать Бунина и толковать его вещи применительно к «злобе дня». «Злоба дня» не может существовать без тесной связи со всем, что предшествовало нашему времени и что в какой-то мере его определило.
Книги Бунина замечательны тем, что они – все – в своем времени и вместе с тем связаны живой своей плотью с прошлым народа.
В прозе и поэзии Бунина явственно присутствует ощущение жизни как длительного и в основе своей прекрасного пути от рождения человека до смерти. Особенно сильно это ощущение выражено в «Жизни Арсеньева».
Эта повесть – не только славословие России, не только итог жизни Бунина, не только выражение глубочайшей и поэтической его любви к своей стране, выражение печали и восторга перед ней – восторга, изредка блещущего со страниц книги скупыми слезами, похожими на редкие ранние звезды на небосклоне. Это еще нечто другое.
Это не только вереница русских людей – крестьян, детей, нищих, разорившихся помещиков, прасолов, студентов, юродивых, прелестных женщин, – многих людей, присутствовавших на всех путях и перепутьях писателя и написанных с резкой, почти ошеломляющей силой.
«Жизнь Арсеньева» в некоторых своих частях напоминает картину художника Нестерова «Святая Русь». Эта картина – наилучшее выражение своего народа и своей страны в понимании художника.
По широкой дороге среди перелесков и взгорий, мимо чистых речек и почернелых бревенчатых церквей, мерно роняющих в тишину осеннего дня колокольные звоны, мимо позабытых погостов и деревенек идет под светлым северным небом большая толпа.
Кого только нет в этой толпе! Идет вся Русь! Идет древний царь в тяжелой парче и литом золоте, идут, жидко звеня цепями, колодники, робкие сермяжные мужички, подпаски с длинными кнутами, странники в скуфейках, девушки с насурьмленными ресницами, что бросают нежную тень на их лица, озаренные каким-то целомудренным внутренним светом. Идут юроды, побирушки, истовые старухи, плотники, косцы, грозные старцы с посохами, подмастерья, идут притихшие белоголовые дети, глядя вверх на проблески солнца и на тянущих на юг журавлей.
В толпе идет Лев Толстой и невдалеке от него – Достоевский. Они идут в дорожной пыли со своим ищущим правды народом, идут вместе с ним в ясные, но пока еще далекие дали, о которых они не уставали говорить всю жизнь.
Что-то общее у этой картины с книгами Бунина в прелести серых деньков, покое полей, легких туманах, а порой – в бледной лучезарности, в тлеющих широких закатах.
Здесь уместно будет сказать, что у Бунина было редкое и безошибочное ощущение красок и освещения.
Мир состоит из великого множества соединений красок и света. И тот, кто легко и точно улавливает эти соединения, – счастливейший человек, особенно если он художник или писатель.
В этом смысле Бунин был очень счастливым писателем. С одинаковой зоркостью он видел все: и среднерусское лето, и пасмурную зиму, и «скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени», и море, «которое из-за диких лесистых холмов вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней».
В записках Бунина есть одна короткая фраза. Она относится к началу лета 1906 года. «Начинается пора прелестных облаков», – записал Бунин и этим как бы открыл нам одну из тайн своей писательской жизни. Эти слова – о приближении неизбежного и милого труда, связанного у Бунина с летней порой, «порой облаков», «порой дождей», «порой цветения».
Этими четырьмя словами Бунин отмечает начало своей работы по наблюдению за небом, по изучению облаков – всегда таинственных и притягательных. Недаром все лучшие наши поэты так точно писали об облаках. Возьмем хотя бы наших современников. У Юрия Олеши над Москвой висит легкое облако с очертаниями Южной Америки. Особенно много облаков у Заболоцкого. «В нежном небе серебристым комом облако невиданной красы. По бокам туманно-лиловато, посредине – грозно и светло, – медленно плывущее куда-то раненого лебедя крыло».
Каждый раз, когда читаешь бунинские строки о лете, вспоминаешь эту его запись. Слова о лете у него всегда томительны, даже если и занимают всего две строки:
«Отцвел и оделся сад, целый день пел соловей, целый день были подняты нижние рамы окон».
Бунин очень тонко видел все, что привелось ему увидеть в жизни. А видел он очень много, с юных лет заболев скитальчеством, непокоем, жаждой непременно увидеть все, до той поры не виденное.
Он признавался, что никогда не чувствовал себя так прекрасно, как в те минуты, когда ему предстояла большая дорога.
Есть некая крепкая связь между такими явлениями, как свет, запах, звук и цвет.
В чем эта связь? Хотя бы в том, что, глядя на неизвестные цветы, похожие на огромные крокусы, с картин Ван Гога, глядя на плотный свет, напоминающий прозрачный сок каких-то заморских плодов, неожиданно вдыхаешь сладковатый дразнящий запах этих плодов и свежее дыхание сырого морского песка. Этот запах как бы доносит до картинного зала равномерный ветер с чужих островов.
Читая Бунина, часто ловишь себя на ощущениях такого рода. Краска дает запах, свет дает краску, а запах восстанавливает ряд удивительных картин. Все это вместе рождает особое душевное состояние сосредоточенности, светлой грусти, легкости жизни с ее теплыми ветрами, шумом деревьев, беспредельным гулом океана, милым смехом детей и женщин.
О своем чувстве красок, отношении к цвету Бунин говорит в «Жизни Арсеньева»:
«Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловое синеву неба, которая сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве, – и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно-божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги тому, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню».
Слегка приглушенные краски, характерные для Средней России, сразу же приобретают зной и густоту, когда Бунин говорит о юге, тропиках, Малой Азии, Египте или Палестине.
«Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки. Стекловидные волны все медленнее перекатывались за бортом, озаряя каюту».
Осенью 1912 года Бунин жил на Капри и подолгу в то время беседовал со своим племянником Николаем Алексеевичем Пушешниковым. Сохранились записи Пушешникова об этих беседах. Они очень простые, эти записи. Они показывают нам Бунина – человека очень сдержанного – в часы редкой его откровенности.
Все эти записи говорят о неистовой любви Бунина к жизни. Глядя из окна вагона на тень от паровозного дыма, таявшую в воздухе, Бунин сказал:
– Какая радость – существовать. Только видеть, хотя бы видеть, лишь один этот дым и этот свет. Если у меня не было рук и ног и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то я был бы счастлив этим. Одно нужно – только видеть и дышать. Ничто не дает такого наслаждения, как краски. Я привык смотреть. Художники научили меня этому искусству. Поэты не умеют описывать осень, потому что они не описывают красок и неба. Французы – Эредиа, Леконт де Лиль – достигли необычайного совершенства в описаниях.
В записках Пушешникова есть место удивительное, раскрывающее «тайну» бунинского мастерства.
Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, прежде всего он должен «найти звук». «Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой».
Что это значит – «найти звук»? Очевидно, в эти слова Бунин вкладывал гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд.
«Найти звук» – это значит найти ритм прозы и найти основное ее звучание. Ибо проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и музыка.
Это чувство ритма прозы и ее музыкального звучания, очевидно, органично и коренится в прекрасном знании и тонком чувстве родного языка.
Даже в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. Еще мальчиком он заметил в прологе к пушкинскому «Руслану» кругообразное легкое движение стихов («ворожбу из кругообразных непрестанных движений»): «И днем и ночью – кот – ученый – все ходит – по цепи – кругом».
В области русского языка Бунин был мастером непревзойденным.
Из необъятного числа слов он безошибочно выбирал для каждого рассказа слова наиболее живописные, наиболее сильные, связанные какой-то незримой и почти таинственной связью и единственно для этого повествования необходимые.
Каждый рассказ и каждое стихотворение Бунина подобны сильному магниту, который притягивает из самых разных мест все частицы, нужные для этого рассказа.
Если бы сейчас существовал такой сказочник, как Христиан Андерсен, то он, может быть, написал бы сказку о том, как слетаются к писателю, обладающему волшебным магнитом, всякие неожиданные вещи, вплоть до солнечного луча в кустарнике, покрытом инеем, до лохмотьев туч и сизых траурных риз, а писатель располагает их в своем особом, ему ведомом порядке, обрызгивает их живой водой – и вот в мире уже живет новое произведение: поэма, стихи или повесть – и ничто не сможет убить его. Оно бессмертно, пока жив на земле человек.
Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. Но вместе с тем он необыкновенно богат в образном и звуковом отношениях – от кимвального пения до звона родниковой воды, от размеренной чеканности до интонаций удивительно нежных, от детского напева до гремящих библейских проклятий, а от них – до меткого языка орловских крестьян.
Я назвал «Жизнь Арсеньева» повестью. Это, конечно, неверно. Это не повесть, не роман, не рассказ. Это вещь нового, еще не названного жанра. Жанр этот изумительный, единственный, берущий человеческое сердце в томительный и сладкий плен.
Принято думать, что «Жизнь Арсеньева» – автобиография. Бунин отрицал это. Для автобиографии «Жизнь Арсеньева» была написана слишком свободно.
Это не автобиография. Это – слиток из всех земных очарований, горестей, размышлений и радостей. Это – удивительный свод событий одной-единственной человеческой жизни, скитаний, стран, городов, морей, но среди этого многообразия земли на первом месте всегда наша Средняя Россия. «Зимой безграничное снежное море, летом – море хлебов, трав и цветов. И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание…»
Бунину удалось в «Жизни Арсеньева» собрать свою жизнь в некоем магическом кристалле, но, в отличие от пушкинского кристалла, даль этой повести, даль жизни писателя очень резко очерчена, просвечена до самого дна.
«Жизнь Арсеньева» – одно из замечательнейших явлений мировой литературы. К великому счастью, оно в первую очередь принадлежит литературе русской.
В этой книге поэзия и проза слились воедино, слились органически, создав новый, удивительный жанр.
В этой книге нельзя уже отличить поэзию от прозы, и многие ее слова ложатся на сердце, как раскаленная печать.
Достаточно прочесть несколько слов о матери, чтобы понять, что Бунин нашел для всего, о чем он хотел сказать, единственно нужное и единственно возможное выражение. Эти строки нельзя читать без душевного потрясения:
«В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках?»
Сила языка в «Жизни Арсеньева» такова, что рождает грусть, волнение и даже слезы. Те редкие слезы, которые вызывает прекрасное.
Новизна «Жизни Арсеньева» еще и в том, что ни в одной из бунинских вещей не раскрыто с такой простотой то явление, которое мы, по скудости своего языка, называем «внутренним миром» человека. Как будто есть ясная граница между внутренним и внешним миром? Как будто внешний мир не являет собой одно целое с миром внутренним?
Все, о чем говорит Бунин в этой книге, – видно, слышно, осязаемо, вещно и надолго радует или печалит нас. Я приведу несколько отрывков. Вот, например, первая встреча маленького мальчика с городом:
«Всего же поразительнее оказалась в городе вакса. За всю мою жизнь не испытал я от вещей, виденных мною на земле, – а я видел много! – такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыко и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка! А самая вакса! Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом!»
В книге есть одно место об «одиночестве» луны. Написано оно с какой-то пронзительной печалью, хотя Бунин пишет от лица того же маленького мальчика:
«Помню: однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидал легкий и таинственный полусвет в комнате, а в большое, незанавешенное окно – бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко, высоко над пустым двором усадьбы, такую грустную и исполненную такой неземной прелести от своей грусти и своего одиночества, что и мое сердце сжали какие-то несказанно сладкие и горестные чувства, те самые как будто, что испытывала и она, эта осенняя бледная луна».
Как описывает Бунин тот печальный угол русской земли, где он родился?
«Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов, – только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь Заказ, Дубровка, а то все поля, поля, беспредельный океан хлебов… Это только Подстепье, где поля волнисты, где все буераки да косогоры, неглубокие лога, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели их кажутся забытыми Богом, – так они неприхотливы, первобытно просты, родственны своим лозинам и соломе».
У писателей есть термин, заимствованный у скульпторов, – «лепка людей». У немногих писателей есть такая безошибочная и безжалостная «лепка людей», как у Бунина. Вот, к примеру, подпасок:
«Мальчишка подпасок… был необыкновенно интересен: посконная рубашонка и коротенькие порточки были у него дыра на дыре, ноги, руки, лицо высушены, сожжены солнцем и лупились, губы болели, потому что вечно жевал он то кислую ржаную корку, то лопухи, то эти самые козельчики, разъедавшие губы до настоящих язв, а острые глаза воровски бегали: ведь он хорошо понимал всю преступность нашей дружбы с ним и то, что он подбивает и нас есть бог знает что. Но до чего сладка была эта преступная дружба! Как заманчиво было все то, что он нам тайком, отрывисто, поминутно оглядываясь, рассказывал! Кроме того, он удивительно хлопал, стрелял своим длинным кнутом и бесовски хохотал, когда пробовали и мы хлопать, пребольно обжигая себя по ушам концом кнута».
Русский пейзаж с его мягкостью, застенчивыми веснами, с его невзрачностью, которая через короткое время оборачивается тихой, печальной красотой, нашел наконец своего выразителя, никогда не пытавшегося его приукрасить. Не было в русском пейзаже даже самой малой малости, которую бы не заметил и не описал Бунин.
«Миновали глинистый пруд, жарко и скучно блестевший своей удлиненной поверхностью в лощине среди выбитых скотиной косогоров. На них кое-где как-то бесприютно на юру, в раздумье, сидели грачи».
В «Жизни Арсеньева» есть небольшая глава. Она начинается словами:
«Очень русское было все то, среди чего жил я в мои отроческие годы». Дальше Бунин говорит о большой дороге вблизи села Становая, о разбойниках, дорожных страхах, дорожных ночах, но какая удивительная картина недавней России набросана здесь:
«Большая дорога возле Становой спускалась в довольно глубокий лог, по-нашему вверх, и это место всегда внушало почти суеверный страх… не раз испытал в молодости этот чисто русский страх и я сам, проезжая под Становой… Все представлялось: глядь, а они и вот они – не спеша идут наперерез тебе, с топориками в руках, туго и низко, по самым кострецам, подтянутые, с надвинутыми на зоркие глаза шапками, и вдруг останавливаются, негромко и преувеличенно спокойно приказывают: «Постой-ка, минутку, купец…»
Великолепных мест в этой книге множество. Я не помню в нашей прозе такого описания зимы, какое я привожу ниже:
«А еще помню я много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делаются скучны, недоброжелательны, – первобытно подвержен русский человек природным влияниям! – и все на свете, равно как и собственное существование, томило своей ненужностью.
Помню, как иногда по целым неделям несло непроглядными, азиатскими метелями, в которых чуть маячили городские колокольни. Помню крещенские морозы, наводившие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых «земля на сажень трескалась»: тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на черно-вороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально, зловеще блистало два тусклых солнца и в тугой и звонкой неподвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми дымами из труб и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев…»
Говоря о Бунине, невольно делаешься человеком навязчивым. Все время хочется показать собеседнику-читателю прекрасные места, одно за другим. Все кажется, что это – последнее. Но оказывается, что дальше – еще лучшее место, и нет сил промолчать о нем. Вот, например, слова о юности и почти детской любви. Каждый думает о минувшей юности с грустью. Тогда мы любили любовь и все, что она приносила нам: «семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно и потому особенно очаровательно доносился далекий бой перепела», и дыхание спящей любимой девушки, – «как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящийся за открытыми окнами, в которые то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого не было, казалось, на всей земле!»
В 1917 году я случайно попал в усадьбу Кропотово, к югу от Ефремова. Усадьба принадлежала отцу Лермонтова. Однажды Лермонтов, по дороге на Кавказ, заезжал к отцу.
Старый и скучный дом был закрыт и заколочен. Я посидел около него на бревне.
Из-за глинистых бугров низко и бесконечно плелись рыхлые темные тучи. Перепадал дождь, стучал по пыльным лопухам.
И вот только недавно, читая «Жизнь Арсеньева», я узнал, что Бунин бывал в Кропотовке и эта деревня всегда вызывала у него мысли о великой бедности наших мест.
«Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал большой дорогой – и дивился ее заброшенности, пустынности. Ехал проселками, проезжая деревушки, усадьбы: хоть шаром покати не только в полях, на грязных дорогах, но и на таких же грязных деревенских улицах и на пустых усадебных дворах… вот Кропотовка, этот забытый дом, на который я никогда не могу смотреть без каких-то бесконечно-грустных и неизъяснимых чувств… Вот бедная колыбель его (Лермонтова)… Какая жизнь, какая судьба! Всего двадцать семь лет, но каких бесконечно-богатых и прекрасных, вплоть до самого последнего дня, до того темного вечера на глухой дороге у подошвы Машука, когда, как из пушки, грянул из огромного старинного пистолета выстрел какого-то Мартынова и Лермонтов упал, как будто подкошенный…»
* * *
Чем больше я читаю Бунина, тем яснее становится, что он почти неисчерпаем.
Во всяком случае, нужно много времени, чтобы узнать все им написанное. И узнать бунинскую бурную, несмотря на элегичность автора, неспокойную и стремительную в своем движении жизнь.
Часть своей жизни Бунин рассказал сам (в «Жизни Арсеньева» и во многих рассказах, которые почти все в той или иной мере связаны с его биографией), часть рассказала его жена, Вера Николаевна Муромцева-Бунина, выпустившая в 1958 году в Париже книгу «Жизнь Бунина» – очень ценный свод своих воспоминаний и материалов о Бунине.
Жизнь Бунина вся до последних дней была отдана скитаниям и творчеству. Недаром Бунин написал рассказ о матросе Бернаре с мопассановской яхты «Милый друг».
Бернар, великолепный моряк, умирая, сказал: «Кажется, я был неплохим моряком». Бунин писал о себе, что он был бы счастлив, если бы в свой смертный час смог повторить по праву слова Бернара и сказать: «Кажется, я был неплохим писателем».
Бунин был смел, честен в своих убеждениях. Он один из первых развенчал в своей «Деревне» сладенький миф о русском крестьянине-богоносце, созданный кабинетными народниками.
У Бунина, кроме блестящих, совершенно классических рассказов, есть редкие по чистоте рисунка, по стереоскопичности, превосходной наблюдательности и по точному ощущению далеких стран путевые очерки об Иудее, Малой Азии, Турции и Египте.