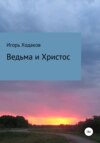Buch lesen: «Деревенские были»
Быль Первая. Иван и не Лукерья
Авторы выражают благодарность Татьяне Васильевне Арчаковой за рассказанные истории, некогда произошедшие в селе Никитино и его окрестностях.
Автор иллюстраций – Илья Ходаков

Поди разберись, откуда она взялась-то. Цыганка эта. Вот как протяжный гудок паровоза раздался, как состав загремел, так она и появилась в пыльной толчее саратовского вокзала, аккурат когда демобилизовавшийся красноармеец Иван Васильевич Польщиков, безжалостно работая локтями, пробивался к выходу. И, добавив к терпкому табачному запаху сильное чесночное амбре, глядя ему в глаза, словно гипнотизируя, цыганка выпалила:
– А того, к кому ты едешь, уже нет на свете.
Он и рта-то не успел раскрыть, как она исчезла. Вот только что была тут, в своем цветастом платке и длинной красной юбке, звеня многочисленными кольцами-серьгами и блестящими браслетами, и вот нету ее.
Несколько секунд Иван, с погасшей папироской в зубах, проторчал так оторопелый. Стоял еще перед очами призрак подмигнувшего зеленого
кошачьего глаза, обрамленного пышными черными ресницами, да еще смуглая щека с родинкой врезалась в память. Пока не раздался второй гудок. Протяжней первого. И состав не загремел пуще прежнего.
Схватил Иван чуть было незабытый в кутерьме вокзальной котелок и сызнова заорудовал
локтями. Протиснулся в набитый донельзя вагон. В таком раньше буржуи, значит, ездили, а теперь такие как он – герои Гражданской войны, с фронта
возвертающиеся
. Правда, Иван без медалей там разных и орденов возвращался, но все же героем себя ощущал, точнее даже просто счастливым человеком, потому что выжил: ни тиф не взял, ни пуля, там, ни сабля белогвардейская. Хотя сабля однажды чуть пол уха не оттяпала.
Вернулся Иван. Вот оно, родное Никтино. Поезд распрощался с ним все тем же протяжным гудком. Закинул герой наш вещь-мешок на плечо. Скатку поправил, фуражку, для форсу, набекрень сбил, расстегнул крючок на выцветшей, штопаной-перештопанной
гимнастерке, и потопал до дома. Идти четыре версты. Недолго. Да Иван и не спешил. Лето ж. Непривычная за годы войны тишина, прерываемая где-то вдалеке раздающимся ревом коров. И вот еще коршуны в небе парят – добычу высматривают, да стрижи пируэты крутят. На небе редкие барашковые облачка виднеются, дождь не предвещающие. Благодать.
Идет он по утоптанной дороге, по сторонам пялится на поля, бурьяном заросшие. Непаханые. «Ничего, распашем. Бар-то больше нет. Земле нынче народная. Зазря, что ли, воевали» – думает. Подходит к дому, к родному штакетнику, на сад любуется, дедом еще посаженый. Да что-то как-то нехорошо на душе стало. Отчего? А кто ж разберет – нехорошо и все тут.
Подходит, подковами на каблуках пыльных сапог топая. Дом как надгробье, как могила с фотографией, чье родное лицо на него глядит, а он его никак узнать не может. Ох, что-то в горле сдавило.
Шумнул:
– Есть кто живой-то?
Отворяется со скрипом дверь терраски. Он еще подумал: «Надо смазать будет».
На пороге мать. Босая. Постаревшая. И вот волосы седые из-под небрежно завязанного белого платка пробиваются. Долго смотрит. И отчего-то на шею не кидается. Со слезами. Как оно, значит, положено. И, главное, Лукерьи тоже нет. Жены его любимой. У Ивана само собой вырвалось:
– Стряслось, что ли, что?
Кажется, маманька пришла в себя и, не поздоровавшись даже, как-то скрипуче произнесла:
– Зайди в дом-то, сынок.
Просидели они в тот вечер дотемна. Да разговор все вертелся вокруг одного и того же: как спровадил тиф в могилу бедную Лукерью. Год уж как.
– Что же не написали-то? – спросил Иван, когда мать на терраске ему спать собирать стала.
– Да как же я напишу тебе, сынок, коли грамоты не знаю. Да и где тебя на войне-то искать. Сама не ведала: жив ли?
В ответ он только по лбу себя хлопнул. А потом как-то потерянно произнес:
– Пойду я, мамань, прогуляюсь.
– Да куда ж в такую темень?
– Ничего, – только и махнул Иван рукой в ответ.
Как ушел, так мать всю ночь и глаз не сомкнула. Поняла ведь, что на кладбище он побрел. Наше деревенское, что за храмом Архангела Михаила крестами деревянными виднеется. Под утро только Иван воротился, за ночь осунувшийся как-то и со взглядом поблекшим. Спать так и не лег. А наутро делами занялся: дверь на терраске сладил, картошку, где надо, на огороде выбрал, сарай, малость покосившийся, поправил. Но раньше словоохотливый, тепереча он совсем неразговорчивый стал. Мать-то с расспросами, правда, тоже не лезла.
А вечером он, не сказав ни слова, свернув постель и взяв ее в охапку, потопал спать в амбар. Мать только рукой махнула: пройдет, мол. Потоскует, да сызнова женится. Она уж и девок приглядывать начала. Да и вдов после Мировой да Гражданской в селе хватало.
Но вот только не «проходило». С месяц уж как вернулся-то, а спал по-прежнему в амбаре. И осунулся Иван еще больше, цвет лица землистый какой-то стал. Бородой неряшливой зарос. Неживой словно. Мать уже беспокоиться начала, пыталась отвлечь. Да никак. Сын только отмахивался. Между тем мужики потихоньку потянулись с войны. Пару раз приятели заявились к нему, так он не выходил. Те и приходить перестали, покумекав и решив, что Ваня умом тронулся от горя-то.
Мать чуть сон вовсе не потеряла. От смерти жены, ей не меньше полюбившейся, она уже оправилась. И то верно – раз смиренна да добра была, то Господь ей на небе покой даст. Потому-то она, мать-то, убиваться кончила, но лишь на время. Теперь вот за сына боится, что ж с ним будет?
Соседкам, подле родника встречавшимся, жаловалась не раз, ведь вон, какое дело: с войны только приехал, ему бы радоваться, да он с ума сходит. Ну померла Лукерья, что ж теперь поделаешь. Не ровен час пойдет куда-нибудь на Феклин Угол или на Марфину Яму, да с горя и утопится. Тут уж точно ему покоя не видать на Том Свете, коль самоубийством жизнь оборвет.
А еще ж люди-то место на Проне возьмут, да и прозовут Ивановой пучиной, аль еще как, вот уж и ей самой, матери-то, спокойной жизни со здоровым сном не видать, как кто-нибудь из соседских поминать энто место будет. Да еще навыдумают баек об энтом
случае: народ-то у нас на байки скорый. Или того хуже – поговорки да пословицы в ход пойдут, дескать: «Ты с ней, ну как Иван с Лукерьей!», «Сам же себе любовь губишь, потом спать не сможешь – Иваново твое горе!» И в том же духе. Вот история-то!
О-ох.
И это еще полбеды. Так он, коль утопится, покойником заложным станет. Тем, значит, кто раньше срока положенного помер. Такие, по поверьям народным, в русалок да леших превращаются. Шастают, ежели лешие, по ночам, или в омуте, коли русалки, каких бедолаг ждут и в пучину утаскивают. Вот страсть-то. От этих мыслей невеселых матери совсем нехорошо становилось. Соседи их с Иваном только жалели, а подсобить ничем и не могли.
А как-то вот ночью мать вышла на терраску – не спалось ей, и кошка, словно надурь, размяукалась; да услыхала мать голос в амбаре. Подошла, слышит, сын ее разговаривает с кем-то. Чуть кувшин с молоком не выронила – показалось ей, будто между предложениями все «Лукерьюшка» да «Лукерьюшка
» мелькает. Прислушалась, вроде как сам с собой. Только голос у него будто как прежний. Даже веселый. Наутро мать спрашивает:
– С кем же ты там говорил-то ночью?
Улыбнулся Иван в ответ какой-то страшноватой улыбкой. «Нездешней» – про себя решила мать. Помолчал, потупился, в бороду нечесаную пятерню запустил и ответил:
– С кошкой, – заикнулся как-то, посмотрел на мать странно так, – Да с кем же еще?
И снова улыбнулся. Жутчее прежнего. «С кем же ш не бывает?» – решила маманя. Сама ведь по вечерам тихим в пору войны-то от одиночества, как Лукерью схоронили, сидела у свечки да с кошкой беседовала. У ней глаза вон какие умные, да и люди поговаривают, что кошки и умом не малым обладают, и лечить по своему могут. И не «Лукерьюшка» он вовсе, небось, говорил, а «Лушенька» (кошку ведь Лушей звали); просто глуховата мать на старости лет стала.
Der kostenlose Auszug ist beendet.