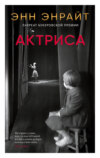Buch lesen: «Хорошие собаки до Южного полюса не добираются»
HANS-OLAV THYVOLD
SNILLE HUNDER KOMMER IKKE TIL SYDPOLEN
Copyright © 2017, Hans-Olav Thyvold
Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.
Книга издана при содействии Chandler Crawford Agency Inc и Литературного агентства Эндрю Нюрнберга

Этот перевод опубликован при финансовой поддержке NORLA
Перевод с норвежского Анастасии Наумовой
Редактор Игорь Алюков
Оформление обложки Елены Сергеевой
© Анастасия Наумова, перевод, 2021
© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2021
* * *
Первый кус
Может, уходит любовь – зато справедливость с тобой.
Если ушла справедливость – рядом останется сила.
Сила ушла? Не беда – мама с тобою всегда.
Мама, привет!1
ЛОРИ АНДЕРСОН
Жизни Майора кранты – это я понял сразу же, как только сунулся утром в его больную комнату. Как я это понял? Майор превратился в бледную тень самого себя. Он лежал на больной кровати и хрипел – впрочем, он и за день до этого такой же был, и за два дня, и за три. Что там было за четыре дня, я не помню, а раньше – и подавно.
Фру Торкильдсен подняла меня и поднесла к его постели, как делала каждый день уже давно. Майору нравилось, когда я залезаю к нему в кровать. Одна борзая как-то раз обозвала меня декоративной собакой-переростком. Ну и ладно. Хотел бы я посмотреть, как дрожащая скелетина-борзая залезет на кровать к умирающему. Когда человеку нужна любовь и нежность, пускай лучше рядом будет декоративная собака-переросток, мохнатая и способная сострадать.
Я устроил Майору круговую облизаловку – к такой он за свои последние дни привык, вот только радость вся из него выдохлась, осталось лишь зловоние. Запах боли, который зародился в Майоре задолго до того, как Майора стали называть больным и увезли отсюда, запах, наполнивший всю комнату своими оттенками. Горечь смерти. Сладость смерти.
Какая разница, какая разница, как ни крутись – повсюду задница.
Этому правилу меня Майор научил, но чтобы я в это поверил, пришлось попрактиковаться. Я, бывало, долго гонялся за хвостом, казалось, вот-вот – и схвачу сукина сына, но в конце концов пришлось мне смириться с истиной: какая разница, какая разница, как ни крутись – повсюду задница.
Фру Торкильдсен спит. Я сперва боялся, что если она не уснет, то непременно полезет меня гладить, но вот теперь ей пора просыпаться, иначе последние минуты Майоровой жизни в этом мире не застанет, а застать их ей хочется, это я знаю.
Проще всего было бы гавкнуть и разбудить ее, но в Доме я шуметь не хочу. Воспитание у меня буржуазное, и поэтому я так и не избавился от страха, что меня выгонят. Откуда этот страх взялся, я понятия не имею, меня ни разу ниоткуда не выгоняли, однако суть страха как раз в том, что он прекрасно существует, ничем не подпитываясь.
Я перешагнул через Майоровы ноги, спрыгнул на пол и шорк-шорк-шорк к креслу фру Торкильдсен. Осторожненько ткнулся ей в ногу, тихо, чтобы она не вздрогнула, но фру Торкильдсен, ясное дело, все равно вздрогнула. Она рассеянно – так всегда бывает, когда ее внезапно будят, – встрепенулась, но вскочила резко, и будь у нее побольше сил, наверняка тигриным прыжком подскочила бы к Майору. Впрочем, сил у нее оказалось достаточно, чтоб я и сам подскочил.
Фру Торкильдсен положила ладонь Майору на лоб, склонила голову и прижалась ухом к его губам. И затаила дыхание. Надолго. Смотрела фру Торкильдсен на меня. Тоже долго.
– Тебя на улицу вывести? – спросила она.
Ну что за хрень, нет, конечно! Тогда бы я скребся передними лапами в дверь и поскуливал. Неужто за столько лет она меня так и не изучила? Она же умная и начитанная, хозяйка-то, просто время от времени тупит и не сразу догоняет, чего я хочу. Возможно, такова моя природа. Я – пес одного хозяина, этого я никогда не скрывал. Как раз наоборот. Фру Торкильдсен меня кормит и купает, расчесывает и выгуливает с тех самых пор, как Майора вернули в Дом, да и до этого тоже, но я был и останусь собакой Майора до его последнего дня. А теперь этот самый последний день настал, я того и гляди осиротею, а поразмышлять о том, что станется со мной и фру Торкильдсен, мне и в голову не приходило. Чего раньше времени плакать-то. Это хороший принцип. А вот кормить строго в отведенное время – принцип, по-моему, дурацкий.
Фру Торкильдсен протерла губы мужу маленькой губкой и тихо заговорила – голос у нее тонкий и певучий, и так он отлично вторил низкому голосу Майора, когда они, сидя в полумраке гостиной, пили драконову воду и напевали песни, слова которых позабыли.
А еще они болтали обо всяких странных вещах, которые делали вместе. О подлых тетушках и нубийских королях. О книгах и лодках. О той войне, что была, и о той, что будет. Порой они говорили и о тех вещах, которые им следовало бы сделать. Были и такие вещи – некоторые они делали, а некоторые нет, – о которых они никогда не говорили.
Вытерев Майору лицо, фру Торкильдсен замерла. Она разглядывала своего мужа, а тот вроде как мирно спал, однако на самом деле изо всех сил боролся со смертью. А это не так просто, как в былые времена.
Видать, в маленькой белокурой голове фру Торкильдсен что-то щелкнуло, потому что она неуклюже забралась на здоровенную железную кровать к Майору, с трудом втиснулась между бортиком и крупным Майоровым телом и, устроившись у него на руке, совсем как я до этого, затихла.
В комнате опять повисла тишина, и я не знал, что предпринять. Кровать высоковата, без помощи фру Торкильдсен мне туда не забраться, а поскольку фру Торкильдсен уже сама залезла в кровать, шансы, что она выберется оттуда, поднимет меня и со мною на руках полезет обратно, ничтожны. Я стоял посреди комнаты и обдумывал различные варианты.
Вариант А. Поскуливание. Исключено по причине страхов, о которых я упоминал выше.
Вариант Б. Беспокойно нарезать круги по комнате. Вреда не будет, но, с другой стороны, и пользы тоже. Результата ноль.
Вариант В. Сидеть неподвижно, точно какой-нибудь умилительный спаниель на могиле давным-давно почившего кормильца. «Фидо сидел на могиле девять лет». Ну надо же. Может, Фидо полезней было б застрелиться и отправиться вместе с кормильцем в могилу? Вот только проклятые большие пальцы на лапах. Тот, кто разработает модель огнестрельного оружия для собак, озолотится.
Фру Торкильдсен, видимо, знала, что сегодня ночью Майор нас покинет, но разговаривала с ним так, будто это обычный день, а они просто возвращаются домой. Вот вернутся, нальют себе по бокальчику, усядутся в кресла и будут наблюдать, как день медленно соскользает в ночь. Свечи зажгут. Гайдна послушают. Камин растопят. Беседовать будут, тихо и неторопливо. И все наладится.
Фру Торкильдсен пускай говорит что ей угодно, но, боюсь, уже поздно. Тело, к которому она всю ночь прижималась, постепенно закрывалось. Майор по-прежнему где-то там, внутри, он словно механик, который ходит по мастерской и выключает один рубильник за другим, заворачивает вентили и гасит свет. От этого маленького механика пахнет спиртом и разложением, именно так ему и хочется пахнуть.
– Надеюсь, излишне говорить, что я люблю тебя…
Слова фру Торкильдсен настолько очевидны, что я почти не удивился, а ведь то, что она вообще их произнесла, крайне странно. Я прежде ничего подобного от фру Торкильдсен не слыхал.
Майор трижды громко всхлипнул. Он пока еще здесь, и хотя фру Торкильдсен этого не слышит, он меня зовет – от моего слуха это не укрылось. Лишь сама волчья мать знает, откуда у меня силы взялись, однако я поднапрягся и запрыгнул на кровать. Втиснувшись между стеной и Майором, я уткнулся мордой ему в ладонь, вдыхая запахи моря и фосфора, пробивающиеся сквозь смерть и болезнь. Больше я не боялся.
Он перестал дышать как раз перед тем, как сердце его перестало биться. Несколько секунд оно билось вхолостую. Последнее, что Майор сделал, – это издал звук, на какой прежде был неспособен. Это был отзвук его голоса – он силился выбраться наружу, прежде чем механик доберется и до него.
Все. Майор ушел.
Фру Торкильдсен обнаружила это не сразу. Заснула ли она, не знаю, но сейчас уж точно проснулась. Она назвала его имя. Положила руку ему на лоб, а ухо поднесла к его губам и затаила дыхание. Прибор для вентиляции шипел. А после фру Торкильдсен тихо заплакала, так что пришлось мне тыкаться в нее мордой. Три раза тыкался, пока она меня не заметила. Она шмыгнула носом и положила руку мне на затылок. Чешет она отлично, хоть ей и недостает Майоровой жесткости, но зато у нее ногти длинные. А ногти – дело хорошее. А потом она посмотрела на меня и проговорила:
– Ну вот, Шлёпик, теперь только мы с тобой друг у дружки и остались.
А затем мы все втроем заснули.
Я родился в деревне. С годами запах хлева выветрился, но я все равно собака деревенская. В помете нас было шестеро. И родились мы в конце весны.
Папашу своего я не знал, но на этом давайте-ка, пожалуй, не станем заострять внимание. К психологии я вообще отношусь с недоверием. По крайней мере, к собачьей.
Мои братья и сестры постепенно, один за другим, исчезали, и меня ждала бы та же судьба, не родись я таким, какой есть.
Неправильный окрас.
Моя жизнь повернулась именно так потому, что морда у меня не того цвета, какой считается правильным. Только и всего. В моем случае так вышло, что белое пятно на морде – это единственный участок на всем мне, сплошь черном. Белое пятно на носу – и вот я уже собака второго сорта, неполноценная, непригодная к участию в выставках. Тот, кто остается, когда его братья и сестры распроданы.
Сбоку припека.
В те времена я этого, разумеется, не понимал. Будучи щенком, я радовался каждый раз, когда очередной соперник навсегда отваливал от миски с кормом. Хорошее это было время, и, помню, одно лето выдалось таким чудесным, таким полным ощущений и впечатлений, что когда выпал снег, мне казалось, будто я вообще снег впервые вижу.
Вместе со снегом началась новая жизнь или, точнее, новые жизни в виде новых братьев и сестер. Не спрашивайте меня, кто был отцом этой оравы, но с самого их рождения мое существование сделалось невыносимым. Мать, которая несколько месяцев ходила отстраненная и погруженная в себя, теперь стала ко мне откровенно враждебной. Лишь тот, на кого огрызалась и рычала его собственная мать, поймет, каково это.
Я и глазом не успел моргнуть, как из обожаемого единственного ребенка превратился в изгоя. Изгоя – это еще слабо сказано. Меня вообще в стаю не принимали. Брат и сестры вели себя сносно, да и пахли неплохо, а вот с матерью отношения навсегда разладились. По-моему, эта травма навсегда со мной осталась, но, как я уже сказал, обойдемся без Фрейда. Да и без Павлова тоже, если на то пошло.
С утра до вечера в дом приходили люди разных видов и мастей, и все с одной целью – посмотреть на щенков! Все вернулось на круги своя, и я надеялся, что как только удастся избавиться от всей этой мелочи пузатой, возвратятся покой и стабильность. А матери рычанье можно и простить или, в худшем случае, не попадаться ей на глаза.
Несмотря на разницу в породах и возрасте, почти все наши гости вели себя одинаково. Голоса их звучали ласково, сердце билось спокойно, а запах крови становился сладковатым. Все напевали вариации одной и той же мелодии, и все приходили, чтобы найти любимчика. Выбрать собаку. Сравнить этот процесс можно разве что с посещением детского дома, только в нашем случае за понравившегося ребенка еще и деньги придется заплатить.
А вот те, кто считает, будто завести собаку – это все равно что взять и родить ребенка, ошибаются на сто процентов. Если не больше! Лишь немногим людям (к сожалению!) доводится увидеть, как их собака появляется на свет, и еще меньше встречается тех, кто усыпляет собственное потомство и завершает таким образом любовную историю. И если пройдет сколько-то лет и ребенок – конечно, в лучшем случае – вырастет и свалит от вас и ваших тараканов, то псина остается с вами на всю свою жизнь – жизнь, в которой вы становитесь Господом Всевышним: подарю ли я моей собаке жизнь или лучше ее умертвить?
Именно тот безобразный конкурс красоты и открыл мне глаза на мои слабости. Потому что на меня смотрели, лишь вдоволь насмотревшись на мелюзгу, а заметив наконец меня, все задавали один и тот же вопрос: «А этот почему такой большой?» – за которым следовал один и тот же выдающий мелочность характера ответ о белом пятне на носу. Моя карта была бита, но даже и без белого пятна я проигрывал в сравнении с крошечными щенятками, до которых еще не дошло, что хвост, он всегда сзади, и что жизнь полна опасных закоулков.

говорили почти все, увидев щенков, но я никогда не мог понять, что под этим подразумевается. Мелюзгу чесали, похлопывали и гладили до умопомрачения. Дети и взрослые, женщины и мужчины – перед щенячьими чарами никто устоять не мог. Впрочем, меня тоже чесали и хвалили. Есть такое присловье: «Как с кокер-спаниеля вода», но на заре моей юности я чувствовал себя дряхлым слоном.
Когда я представлял, как попаду в руки приходивших к нам отвратительных детей, у меня до самого кончика хвоста хребет леденел. Неподготовленного ребенка до собаки допускать нельзя. У нас бывали и девочки, мечтавшие о кролике (!), но матери с отцом взбрело в голову подарить им собаку. Решение само по себе правильное, однако каково бедной псине, которой суждено вырасти кроликозаменителем? И что, если собака в один прекрасный день – может, став уже взрослой – поймет, что именно случилось?
Как бы там ни было, я рад, что стал свидетелем всей этой купли-продажи, и еще сильнее рад, что поначалу мое белое пятно, а потом и размеры меня от этого избавили. Я тогда и понятия не имел, что такое «выставка собак», но, едва услышав это слово, я вздрагивал.
Хотя взглянуть на выставку собак мне было бы интересно, однако от мысли, что я для такого не создан, мне становилось легче. Да, слово это порождало у меня в голове немало нездоровых фантазий.
Цинизма, которым проникнут процесс продажи щенков, я в юном возрасте – когда распродали тех, кто был со мной в одном помете, – не понимал. Не было бы счастья, да несчастье помогло, и от этого я ехидно усмехался в бороду. Жизнь моя шла лучше некуда благодаря тому, что люди, хоть и прожив десятки тысячелетий с собаками, не усвоили первой заповеди, пункта один-один в руководстве по применению:
«Не суди о собаке по окрасу».
Стоило ему войти в комнату, как я увидел, что он не такой, как все остальные обожатели живых плюшевых игрушечек. Он единственный пришел один. И был самый старый. И самый здоровенный. Едва порог переступил – и комната уже принадлежала ему, с этого момента правила придумывал он. Старый альфа-самец, предпочитающий бродить в одиночку. Как это растолковать, я в тот момент не знал, но, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, я любые новости по умолчанию считал скверными.
Единственный из всех, он не умилялся при встрече с нашей небольшой стайкой. Даже не издав привычного уже

он показал на меня и спросил:
– А с этим что не так?
Я снова вынужден был выслушать обоснование моей неполноценности. Покидать этот дом мне не хотелось, однако и унижение я терпел без восторга. Не дослушав объяснений, большой альфа-самец бросил:
– Полцены. Наличными.
Вот так Майор занял в моей жизни место хозяина.
Произошло это с невероятной быстротой, и я понял, что случилось, лишь впервые в жизни оказавшись в автомобиле. Сперва я полагал, будто двигается не машина, а пейзаж за окном, и из-за этого поездка превратилась в кошмар. Куда бы я ни сунулся, невидимые силы дергали меня во всех направлениях, пока я вообще не потерял ориентир. Желудок мой тоже растерялся. И вывернулся наизнанку. Обычно я такого себе не позволяю, но тут совсем отчаялся, поэтому тихо лежал в собственной блевотине, пока, сам того не зная, не очутился в Доме.
Измотанный и несчастный, я не особо запомнил первый вечер, а может, это пришедшие потом привычки стерли ощущение непривычного. Однако я много раз слышал рассказ о том, как в один прекрасный день Майор без предупреждения притащил домой, к фру Торкильдсен, которая уже тогда, задолго до болезни Майора, начала бояться, что тот умрет, вонючего щенка. О том, как меня вымыли в ванне, завернули в старый халат и сфотографировали. Фру Торкильдсен обожает показывать эту щекотливого свойства фотографию, причем даже малознакомым. Что мне нравится в этой истории, так это как фру Торкильдсен, подчеркнув, что собаку ей совершенно не хотелось, всегда заканчивает свой рассказ фразой: «Майор знал, что делает, когда решил завести Шлёпика!»
И когда она так говорит, я чувствую, что мое достоинство восстановлено. А для нас, собак, достоинство – это важно, хотя иногда, когда мы роемся в мусоре или вытираем зад о ковер, так и не скажешь.
Как известно, воспитание собак – не сказать чтоб целая наука. В кнут и пряник Майор не верил. А вот в кнут и кусочки мяса – наоборот. Это я не к тому, что он меня бил. Необходимости в этом не было. Ему достаточно было один раз ухватить меня за шкирку – и я все понял про его силу. А его сила – это моя сила. С собакой Майора Торкильдсена лучше не шутить.
Сперва Майору сделалось так плохо, что его положили в больной дом, куда собак не пускают, а потом он лишь ненадолго приезжал домой. В последний раз его забрали прямо посреди ночи. Так что можно сказать, мы – я и фру Торкильдсен – привыкли к мысли, что нас только двое. И тем не менее сейчас все иначе. Фру Торкильдсен сидит в своем обычном кресле у окна, а я – меня больше оттуда не гоняли – свернулся на обитом бычьей кожей Майоровом кресле, хотя пока Майор еще жил с нами, мне это строго воспрещалось. Мы с фру Торкильдсен столько вечеров вот так просидели – думали, что привыкли, но финишная черта стала вдруг стартовой. Как выяснилось, жизнь после смерти все-таки существует.
От Майора всегда пахло скорее ипритом, чем розами, но однажды к его основному запаху добавился еще один, едва заметный. Запах этот, почти невидимый, желтоватый, расползался по комнате, он не только выходил у Майора изо рта, но и просачивался из пор кожи, когда Майор читал книгу о Войне. Майор вообще читал книги только о Войне, а фру Торкильдсен – все остальные книги. Такое у них было распределение обязанностей.
Диагноз «библиотекарь» поставили фру Торкильдсен уже во взрослом возрасте, но, вероятнее всего, она с ним родилась. Все симптомы были налицо с ранних лет. В детстве у нее имелись две толстые книги, переплетенные в оленью кожу (это я выяснил, ткнувшись в них носом) и полные волшебных историй, которых она никак не могла наслушаться. Тогда ей приходилось их слушать, потому что читать она не умела.
Зажав книгу под мышкой, она брала в другую руку маленькую табуреточку и шла на улицу, а там просила всех подряд: «Вы мне не почитаете?»
– Люди тогда были бедными, – говорит фру Торкильдсен, рассказывая эту историю.
Она порой ее рассказывает, потому что Майор любил эту историю больше других. По крайней мере, фру Торкильдсен так считает. Сам я в этом не уверен – прежде чем делать по этому поводу какие бы то ни было выводы, я бы все же уточнил у Майора.
– Люди были бедными, но читать все умели.
Вряд ли мы были бедными, но мы читали – Майор, фру Торкильдсен и я. Я говорю «я», хотя технически я не читал. Собаки вообще читать не умеют. Но время от времени, совсем недолго, я, опьяненный тефтельками в соусе, укладывался на диван и сквозь дрему чувствовал, как Майоровы книги про Войну неслышно оседают у него в голове. Там, внутри, они превращались в шум, гам, картинки, запахи, страхи и неразбериху. Он часами сидел в своем бычьем кресле, и по нему ни за что нельзя было догадаться, что происходит. Если фру Торкильдсен, сидя с книгой, смеется и плачет, то Майор читал безмолвно, сердце у него билось одинаково ровно, вдыхал и выдыхал он с одинаковой частотой, страница за страницей, книга за книгой. Он читал так жадно и так основательно переваривал книги, что, думаю, тем, кто читал после него, ничего вкусненького уже не оставалось. Благодаря этому фру Торкильдсен примерно представляла, на каком месте Войны он остановился. Речь, кстати, о большой войне – не о какой-нибудь паршивой собачьей склоке.
Охотились мы втроем, все вместе. Выезжали за город, и я оставался сторожить машину, а они отвечали собственно за охоту. Сущий ад это был, вот что. Какой-то французский друг фру Торкильдсен считает, что ад – это люди. Но я бы сказал, что это сильно зависит от людей. А вот настоящий ад – это когда сидишь один в машине и ждешь. Сторожить машину, когда вокруг то и дело шныряют люди, – задание само по себе для собаки непосильное, поэтому я на всякий случай часто лаял. И еще очень переживал за охоту. Майор с фру Торкильдсен по мелочам не разменивались. Возвращались они всегда нагруженные говядиной, птицей, олениной и свининой, а сверху в тележке у них лежали еще и фрукты, грибы, зелень и овощи. Ну да ладно, если уж им так нравилось. Им и на рыбалке везло, и это чудесно, потому что рыбу ловить собакам не дано, а я рыбу обожаю. Будь я человеком, весь день сидел бы на берегу и таскал из моря копченую треску.
На моей памяти мы ни разу не вернулись с охоты с пустыми руками. Никогда миска моя не стояла пустой. По вечерам, поужинав, – во время такого ужина на пол перед моим носом чего только не падало – Майор с фру Торкильдсен сидели в темноте возле большого окна, пили драконову воду и до поздней ночи вели беседу.
Таким долгим мирным ночам пришел конец, но еду-то нам как-то надо добывать. Признаюсь, мысль эта доставляла мне беспокойство. Да, фру Торкильдсен обычно ездила на охоту вместе с Майором, и, насколько я знаю, охотится она не хуже него, но я как-то раз видел, что случилось, когда она наткнулась в подвале на крысу, и с тех пор в душе у меня зародились сомнения, что она нас прокормит. Да, Майор, как он любил подчеркивать, забил подвал всяческой снедью, которой хватит на год, – вот только что будет, когда год этот закончится, ведь фру Торкильдсен в одиночку охотиться не сможет? Меня мучила тревога, и тревожный пес быстро превращается в пса грустного. А грустный пес – кому он вообще нужен?
Тем приятнее было мое удивление, когда фру Торкильдсен вернулась в машину со своей первой охоты – я был вне себя от счастья, что снова ее увидел, – и принесла и рыбу, и птицу, и такие собачьи хрустелки в желтом пакете, на котором еще нарисован довольно неприятный джек-рассел-терьер, но которые при этом на вкус прямо-таки волшебные, да и плотные они как раз как надо.
Последняя вылазка в тот день была лучшая, потому что фру Торкильдсен взяла меня с собой. Этого я не ожидал, поэтому не сразу откликнулся, когда она вылезла из машины и сказала:
– Пошли!
Надо же – обычное слово, а какое прекрасное.
Я не совсем тупой и понимаю, когда лучше идти рядом, и тут как раз такой случай и выдался. Фру Торкильдсен решительно вела меня через толпу, и ее уверенность передалась мне.
В ноздри мне ударил знакомый и в то же время чужой запах. Фру Торкильдсен вела нас к источнику запаха, в самую глубь помещения. Там виднелся вход в пещеру, куда мы с фру Торкильдсен и направились, и совсем скоро я понял, где мы очутились. В Драконьем логове.
– Ну что ж, давай тележку возьмем, – сказала фру Торкильдсен.
Так мы и поступили. Я шагал сзади на поводке, а фру Торкильдсен медленно, но целеустремленно передвигалась по помещению и одну за другой брала с полок бутылки. Некоторые она ставила обратно на полку, а другие складывала в тележку. Когда тележка стала полна, фру Торкильдсен двинулась к выходу, и я уже предвкушал, как заберусь в машину и мы поедем домой, где после такой вылазки меня наверняка ждет какое-нибудь лакомство. Но это было бы слишком просто.
Сперва фру Торкильдсен выложила из тележки все ее содержимое и передала его мужчине за стойкой. Тот одну за другой трогал бутылки, а фру Торкильдсен объясняла ему, что ждет гостей, потому что ее супруг умер и надо устроить поминки. Похоже, такая причина его устроила. Мужчина за стойкой выразил свои соболезнования и вернул бутылки фру Торкильдсен. Но тут возникла новая задачка. Фру Торкильдсен сложила все бутылки в пакеты, и пакетов этих оказалось чересчур много – унести их все она бы не осилила.
– Боже мой, как же мне дотащить это все до машины? – спросила она, и мне захотелось ответить, что никак, вообще без шансов, хватай то, что тебе по силам, и давай-ка отсюда убираться побыстрее, однако тут откуда ни возьмись нарисовался какой-то хриплый бородатый юнец, который предложил ей помощь.
Фру Торкильдсен вообще ничего нести не пришлось – этот тип подхватил ее пакеты, и мы пошли к машине. Дорогой фру Торкильдсен рассказала, сколько успела, о себе, о жизни и даже обо мне чуть-чуть. И все рассыпалась в благодарностях. Она бы его вообще не отпустила, но у юнца, видно, и другие дела в жизни имелись, кроме как ее слушать.