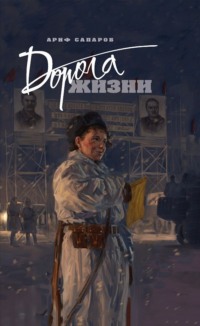Buch lesen: "Дорога жизни", Seite 4
Впрочем, и трещины, и торосы, и коварные промоины, как ни опасны они для автотранспорта, выглядели сущей безделицей по сравнению с основной проблемой, которая волновала в те дни всех.
Сроки – вот что было решающим. В конце концов, приноровиться можно к любым особенностям озера. Лишь бы оно скорей замерзало, лишь бы набрал силу молодой озерный лед.
Средний срок окончания ладожского ледостава приходился, по данным метеослужбы, на 13–15 декабря. Стало быть, массовые перевозки продовольствия и боеприпасов могли начаться только через месяц.
Это было невыносимо – ждать целый месяц! Ждать, когда хлеба в городе осталось совсем мало, когда обстановка близка к катастрофе и каждый день уносит все новые и новые жертвы голодной дистрофии.
3
«Ведь мы же комсомольцы! Мы должны, можем и будем работать. Мы не имеем права терять учебный год, наоборот, мы должны и другим помочь закончить его успешно».
К счастью, ждать пришлось гораздо меньше.
Ноябрьские холода заставили свернуть навигацию раньше времени. Но нет худа без добра: холода, кстати, и помогли, вызвав ладожский ледостав раньше обычного срока.
Ход ледостава на Ладожском озере в эти дни беспокоил руководителей обороны больше всего. Ежедневно Военному совету докладывали прогнозы погоды, метеосводки, данные измерений толщины льда. Библиографы Публичной библиотеки за одну ночь выполнили срочный фронтовой заказ: подобрать всю литературу, в которой хоть что-нибудь говорится о Ладоге.
Озеро постепенно замерзало. К середине ноября уже и на горизонте нельзя было заметить темного среза открытой воды.
Военный совет приказал организовать тщательную аэрофотосъемку. Самолеты-разведчики несколько раз прошли вдоль предполагаемой трассы.
Вся Ладога была затянута ледяным покровом. Только возле балки Астречье летчики сфотографировали крупную майну-полынью, уходившую на север длинным подковообразным полем. По рассказам местных жителей выходило, что подобные незамерзающие майны обычны на Ладожском озере. Бывают зимы, когда они держатся по нескольку месяцев подряд, преграждая путь к восточному берегу.
Повторные аэрофотосъемки рассеяли опасение: майна возле Астречья сокращалась в размерах. После этого наступила очередь пешей разведки. Проверить прочность ледяного покрова могли только пешеходы – с воздуха и тонкий, и толстый лед выглядит одинаково.
Командира дорожно-эксплуатационного батальона майора Алексея Можаева вызвали телефонограммой в Смольный.
Разговор в Военном совете фронта был непродолжительным. Принимавший комбата генерал попросил доложить обстановку. Внимательно выслушав ответ, он поднялся из-за стола.
– С местным населением поддерживаете связь? – спросил генерал, внимательно посмотрев в глаза Можаеву – Что говорят старожилы? Можно сейчас перейти озеро?
Можаев сказал, что даже старые рыбаки в прибрежных деревнях, с которыми он советовался, не припомнят случая, когда бы санный путь установился в ноябре. Лед еще очень тонок. Едва отойдешь от берега, как сразу начинает потрескивать.
– Все это так, – перебил его генерал и, подойдя к Можаеву, присел на подлокотник кресла. – Но учтите, что положение у нас исключительно плохое. Вы и все, кто сейчас на Ладоге, должны об этом знать. Неслыханно скверное положение! Три дня назад мы сократили хлебный паек, а сейчас готовим новое сокращение. Понимаете, что это значит?
– Понимаю, товарищ член Военного совета.
– Вот и хорошо, что понимаете. Впрочем, это и почувствовать надо. Но раз понимаете – отлично! Давайте действовать, не теряя времени. Нынешние хлебные нормы ленинградцев долго существовать не могут. Промедление сейчас смерти подобно…
В заключение генерал приказал Можаеву снарядить разведывательный отряд, который должен перейти озеро, проложив трассу к Кобоне, к запасам хлеба.
– Нельзя терять даже часа! – повторил он, отпуская Можаева. – Спасение ленинградцев в ваших руках…
Эти слова накрепко запомнились Можаеву. С ними ходил он по пустынному, заметенному снегом Суворовскому проспекту, дожидаясь машины, чтобы уехать к себе в батальон.
Вечер был холодный. На углу, напротив обгоревшего от фашистских зажигательных бомб госпиталя, стояли женщины с кошелками. Можаев и раньше замечал эти длинные, терпеливо ожидающие очереди за хлебом, но только сейчас понял, что не оценивал их по-настоящему. А ведь бледные лица женщин, молча стоящих возле запертых дверей булочной, говорили о многом. Голод, страшный и неумолимый враг, уже стучал своей костлявой лапой в дома ленинградцев.
Шофер успел навестить свою семью, пока Можаев находился в Смольном. Слушая его горестный рассказ, комбат снова припомнил слова члена Военного совета.
– Голодует народ, – сокрушенно говорил шофер Он ехал с выключенными фарами, осторожно пробираясь по затемненным, будто вымершим улицам Пороховых. – Ужасно как голодует… Все бы ничего – да детей больно жаль. А чем поможешь? Нечем помочь. Худое дело, товарищ майор.
Можаев сидел рядом с шофером, обдумывая предстоящую операцию. Если бы ему разрешили сдать батальон заместителю, а самому отправиться в эту рискованную ледовую разведку, он готов был бы выступить хоть немедленно. Пусть ненадежен молодой озерный лед и чересчур велика опасность – все равно он пошел бы без колебаний. Но об этом смешно мечтать. Хорош командир батальона, бросающий доверенное ему дело ради того, чтобы стать рядовым разведчиком! Нет, его обязанности гораздо шире. Он должен организовать разведку, предусмотрительно и дальновидно обдумать каждую мелочь, от которой зависит успех. Очень важно подобрать смелого и умного командира отряда. Командир – душа всей операции, его воля и настойчивость передаются людям.
Миновали городскую окраину. Машина мчалась к Ладожскому озеру. Изредка шофер включал подфарки, а отъехав километров пятнадцать по дороге, бежавшей теперь среди зимних перелесков, дал полный свет: не всегда же висят над головой немецкие самолеты!
Можаев сидел с закрытыми глазами, перебирая в уме офицеров своего батальона. Лучше всего в командиры отряда подходил воентехник Соколов. Правда, были и другие достойные кандидаты – опытнее его, покрепче физически. Но Соколов молод, настойчив, энергичен и – главное – сам из Ленинграда. Этот в лепешку расшибется, а до Кобоны дойдет.
Возвратись в батальон, Можаев послал связного за Соколовым.
– Есть у вас кто-нибудь в Ленинграде? – спросил он молодого офицера.
– Мать и сестренки-школьницы, – насупившись, сказал Соколов. – А что, товарищ майор?
– Письма давно получали?
– Вчера получил, – все больше хмурясь, сказал Соколов. – Дела такие, что не знаю, что и придумать… Эвакуировать бы надо – дороги нет. Был бы хлеб – как-нибудь бы прожили. Опять же дорога нужна…
– Да, – согласился Можаев, – нужна дорога.
И, помолчав, сказал:
– Вот что, товарищ Соколов: приказываю вам возглавить разведотряд. Сегодня же отберите бойцов, желательно, конечно, добровольцев. Подумайте о снаряжении, средствах связи. Нашему батальону поручено дойти до Кобоны и пробить трассу для конного транспорта, разметив ее вехами…
– Когда выступать, товарищ майор? – спросил Соколов, оживившись.
– Обождем еще денек, пусть окрепнет лед. Но времени зря не теряйте. Особенно важно подобрать хороших людей. Задача ясна, товарищ Соколов?
– Ясна, товарищ командир батальона! – вытянулся молодой офицер. – Разрешите выполнять?..
4
И вот отряд Соколова вышел на озеро.
В лицо бойцам дул холодный северный ветер, предвестник надвигающейся метелицы. Колючая снежная пыль слепила глаза, перехватывала дыхание.
Разведчики шли размашистым, походным шагом, стараясь согреться после вынужденного привала в камышах. Лед на их пути держался хорошо, и беспокойное предчувствие близкой беды мало-помалу оставило бойцов.
Бескрайняя озерная равнина простиралась перед отрядом. Где-то впереди, за студеной синеватой дымкой, окутавшей горизонт, находился восточный берег с его щедрыми запасами продовольствия. Это была земля спасения, до которой надо дойти любой ценой. Пусть завывает леденящий ветер, пусть свирепствует лютый морозище – все равно надо дойти.
Километров пять отряд прошел без особых происшествий. Лишь изредка кто-нибудь падал, поскользнувшись на льду, да время от времени делали короткие остановки, чтобы дождаться тех, кто устанавливал опознавательные вешки.
Пробные лунки показывали, что повсюду толщина льда равна десяти сантиметрам. Плотный и достаточно крепкий, этот лед, несомненно, мог выдержать конную упряжку.
Так было до пятого километра. Затем все изменилось, точно отряд перешагнул какой-то неведомый рубеж. Чувствовалось, что с каждым шагом толщина льда резко уменьшается. Достаточно было чуть тверже ступить или покрепче ударить посохом – и под ногами возникали трещинки. Тоненькие, похожие на мелкую паутинку, они разбегались во все стороны, настораживая бойцов.
Соколов помрачнел. Если и дальше так будет продолжаться, возвращение отряда неминуемо. Ведь на середине озера лед еще тоньше…
– Место здесь нехорошее, ключи из-под земли бьют, – успокоил его проводник. – Ты не сомневайся, сынок, это место мы проскочим.
Никанорыч был прав. Пройдя еще немного вперед, разведчики убедились, что дальше лед опять устойчив. Глубина очередной лунки достигала десяти сантиметров.
Командир отряда прибавил шаг. Ему не терпелось быстрей добраться до Кобоны, он шел и мечтал о том, как начнут с завтрашнего утра отправляться первые конные обозы с хлебом.
И вдруг раздался отдаленный орудийный выстрел. Следом за ним разведчики услышали нарастающий свист снаряда. Метрах в пятидесяти взметнулся огромный столб воды и пламени.
– Ложись! – крикнул Соколов.
Бойцы попадали на лед, слившись в своих маскировочных халатах с заснеженной озерной равниной.
По-видимому, гитлеровцы обнаружили разведку. Их артиллерийский налет был необычно свирепым, стреляло сразу несколько орудий.
Пережидать обстрел на льду совсем не то, что на твердой земле, где любая кочка способна послужить надежным укрытием. Каждый взрыв встряхивал лед на озере, точно по нему колотили гигантским молотом. В воздухе потянуло едкой пороховой гарью. Грохот рвущихся снарядов слился с пронзительным свистом осколков, с шумом падающей воды.
Закончился артналет так же внезапно, как и начался. Снова стало тихо.
Плохо ли стреляли немецкие артиллеристы или помогла счастливая случайность, но все обошлось благополучно: никто из бойцов отряда не пострадал.
Убедившись в этом, Соколов заторопился вперед. Со свойственной молодым людям напористостью, он рассчитывал достигнуть восточного берега еще до наступления темноты. Командир отряда даже не подозревал, что этот неожиданный обстрел был лишь началом тех суровых испытаний, которые предстояли разведчикам.
Отряд продолжал свой путь к Кобоне.
После полудня, когда, по расчетам Никанорыча, до цели похода оставалось меньше пятнадцати километров, изменилась погода.
На Ладогу пришла пурга. Началась она с порывистого, жгучего ветра, взметнувшего тучи снега. Все кругом потемнело, точно раньше времени наступил вечер.
Пурга валила бойцов с ног, относила в сторону. Двигаться стало вдвое трудней.
Уменьшилась и толщина ледяного покрова. Разведчики чувствовали, как колышется он под ними, опускаясь и поднимаясь, будто шаткая болотная трясина.
Соколов распорядился увеличить интервалы.
Бойцы обвязались веревками, как альпинисты, восходящие на крутую вершину.
Предосторожность оказалась кстати. Не успел отряд пройти и полкилометра, как случилось несчастье с Никитой Ивановичем Астаховым. Лед под ним внезапно проломился, и, прежде чем Астахов успел отскочить в сторону, он очутился в воде.
На выручку кинулся Никанорыч.
– Не шевелись, ребята! – предупредил он разведчиков. – Всем как есть замереть на месте!
Старый рыбак ползком подобрался к полынье и протянул барахтавшемуся в воде Никите Ивановичу свой посох. Но тонкий лед на краях полыньи обламывался, вытащить Астахова не удавалось. Тогда Никанорыч скрутил веревочную петлю, лежа взмахнул ею над головой и стремительным, ловко рассчитанным движением набросил на плечи Астахова. Затем стал потихоньку отползать от гиблого места, с силой потянул веревку и помог разведчику выбраться из воды. Видно было, что не первый раз приходилось ему выручать попавших в беду.
Одежда на Астахове мгновенно покрылась ледяной коркой. Никиту Ивановича колотил озноб, зубы его стучали. Проводник заставил Астахова глотнуть спирта, помог снять намокший полушубок, старательно выжал воду.
Происшествие с Астаховым поставило командира отряда в тупик. Соколов растерялся, не зная, что предпринять. Навряд ли сумеет Никита Иванович, побывав в ледяной воде, продолжать поход вместе со всеми. Но как же тогда быть? Нельзя же бросать человека на произвол судьбы! Отправлять обратно тоже рискованно. Наверняка замерзнет в пути.
– Может, дойдешь, Никита Иванович? – неуверенно спросил Соколов. – Теперь что вперед, что назад – одинаково…
– Дойду или не дойду, а идти надо, – с трудом ответил Астахов.
Отряд двинулся дальше.
Участок тонкого льда удалось миновать благополучно. Лишь пурга по-прежнему донимала разведчиков диким неистовством. Снежные вихри, подобно безжалостным бичам, хлестали со всех сторон, выматывая последние силы.
До Кобоны оставалось еще десять километров.
Бойцы брели, пошатываясь от усталости. Через каждые четверть часа Соколов останавливал отряд для небольшой передышки.
Короток ноябрьский день. Вскоре начало смеркаться. Затихла понемногу и пурга, словно догадавшись, что все равно ей не остановить разведчиков.
И тут командир отряда увидал темневшую впереди открытую воду. Это была майна, большая ладожская полынья, сфотографированная летчиками во время воздушных разведок трассы. Вытянувшись наподобие кривой сабли с севера на юг, майна загораживала дорогу к Цветочному берегу.
Неужто поворачивать обратно?
Соколов понимал, что его люди вымотаны до предела. Он и сам едва передвигал ноги, чувствуя, что мгновенно заснет, если только присядет хоть на минутку.
И все-таки нужно было искать обход майны. Он должен где-то быть, этот счастливый обход, и его надо было найти во что бы то ни стало.
Посоветовавшись с проводником, Соколов устроил привал. Затем взял с собой старшину Твердохлеба и отправился в разведку вдоль кромки майны. У нее должен быть конец, у этой проклятой полоски незамерзающей воды. Просто они ничего не видят из-за рано наступивших сумерек.
Уже совсем стемнело. В небе вспыхнули неяркие звезды. Разведчики расположились отдыхать прямо на льду. Изредка они окликали друг друга, опасаясь, что погибнут, поддавшись искушению уснуть.
Один Никанорыч не ложился, хотя и устал, должно быть, больше других. Старый рыбак все ходил вокруг привала разведчиков, строго поглядывая на измученных людей и награждая бесцеремонными пинками всякого, кто, казалось ему, вот-вот готов задремать.
5
Пока Соколов с Твердохлебом двигались вдоль майны, разыскивая дорогу к Кобоне, пока разведчики в ожидании своего командира слушали неторопливые стариковские рассказы Никанорыча о разных случаях, происходивших с рыбаками на просторах буйного озера, в штабе батальона нарастало беспокойство.
Можаев не отходил от рации.
Прошло десять часов со времени выступления отряда, а никаких вестей от Соколова еще не поступало. Давно подоспел срок сообщить о результатах разведки в Смольный.
Командира батальона дважды вызывали к прямому проводу:
– Почему не докладываете Военному совету?
Можаев хмуро отвечал, что ничего пока не знает, что сам ждет известий с озера.
Сжимающее сердце сомнение все сильнее овладевало комбатом. Правильно ли он поступил, доверив такую сложную операцию молодому офицеру? Не лучше ли было самому повести отряд? Соколов, конечно, не струсит, но может растеряться – у него маловато командирского опыта. А что, если вражеской батарее удалось накрыть разведчиков меткими попаданиями? Что, если лежат они, окровавленные и беспомощные, на льду, тщетно надеясь на выручку товарищей?
Ожидание было мучительным для Можаева. Несколько раз он порывался вызвать эскадрилью связи, но, подумав, клал телефонную трубку на место. Разве увидит что-нибудь летчик в ночную темень? Надо ждать рассвета, надо запастись терпением.
В это время Соколов писал донесение в жарко натопленной избе кобонского рыбака. Чадила свеча, приклеенная к опрокинутой солдатской кружке. На полотенце хозяев лежали толстые ломти хлеба. В глиняной миске виднелось несколько остывших картофелин.
Разведчики только что поели и теперь отдыхали – кто на полу, кто на скамье, а кто и в соседних избах. На печи лежал голый Астахов. Вся его одежда сушилась тут же на веревке. Лицо Астахова горело, он бредил во сне.
Соколов услышал его путаные речи, подошел, погладил по мокрому лбу и накинул на его плечи задубевший от огня и жары полушубок.
Донесение Соколова поступило в штаб батальона под утро. Оно было немногословным. Командир разведки сообщал, что ему удалось разыскать дорогу в обход майны, что отряд достиг Кобоны, не потеряв ни одного человека, что связью не смогли воспользоваться из-за повреждения рации.
Невольный вздох облегчения вырвался у всех, кто находился в штабе. Значит, ледовая трасса все-таки пробита!
Можаев приказал седлать коня. Он не мог и не хотел ждать ни минуты. Комбат решил лично проверить надежность льда по всей трассе, пройденной отрядом Соколова. Если лед способен выдержать коня и всадника, стало быть, выдержит он и конную упряжку.
На озере еще стлались серые предрассветные тени, мела поземка. С непривычки конь Можаева скользил подковами, испуганно фыркал и настораживался перед снежными сугробами.
Комбат надеялся до полудня достигнуть Кобоны в нетерпеливо погонял коня.
Очень, должно быть, странно выглядел этот одинокий всадник в полушубке и валенках, скачущий ни свет ни заря среди озерной равнины. Даже связной У–2, пролетавший над Ладогой о штабной корреспонденцией, увидев его, дал круг, чтобы получше разобраться в столь диковинном явлении. Можаев не сдержал улыбки, заметив, как внимательно рассматривает его недоумевающий летчик, круживший над самым льдом. Он помахал рукой, а летчик, так ничего и не выяснив, полетел по своим делам.
За четыре часа майор Можаев переехал на другой берег озера. Его появление в Кобоне было неожиданностью. Он разыскал еще спавшего Соколова. Командир отряда вскочил в чем был:
– Есть трасса, товарищ майор!
Можаев молча расцеловал Соколова.
Теперь не оставалось никаких сомнений: надо немедленно снаряжать конные обозы с хлебом для ленинградцев.
В тот же день – это произошло 19 ноября 1941 года – первые подводы прибыли на западный берег. Ледовая трасса была пробита. Ненадежная, рискованная, требовавшая от всякого, кто осмеливался выйти на нее, готовности к подвигу, она соединила Ленинград с большой советской землей.
Еще хвасталось берлинское радио железным кольцом блокады, сквозь которое будто и птице не пролететь в осажденный Ленинград, еще ничего не знала обеспокоенная родина, тревожась за судьбу ленинградцев, и даже сами ленинградцы еще только надеялись на помощь извне, а легендарная ладожская «дорога жизни» уже начала действовать.

Прорезая светом фар темноту ночи, шли по трассе тысячи машин с грузами для Ленинграда
Глава четвертая
1
«Как ни старается Ленинград скрывать свои раны, подчас приходится признать страшную силу голода. Люди воюют с ним настойчиво, со слезами обиды, со злобой и упорством, стараясь заглушить его, мешающий жить, работать, бороться. А он снова напоминает о себе. И особенно жутко то, что нечем помочь угасающим. Слабые гибнут и гибнут, а оставшиеся в живых напрягают последние усилия. Дайте нам хоть немножечко хлеба – и мы выдержим все! Но дайте скорее – не то будет поздно».
В кольце осады удалось пробить отдушину.
Дары ледовой трассы начали прибывать в осажденный город на следующий день после похода разведчиков.
К западному берегу озера один за другим потянулись конные обозы. Везли они главным образом ржаную муку. Отправлялись обозы круглосуточно.
Лед на озере еще не успел окрепнуть. В сани грузили по два мешка. Никто не отваживался на большее, потому что и с этой нехитрой поклажей приходилось вдоволь намучиться, прежде чем достигнешь цели.
На поездку из Кобоны в Осиновец тратили десять часов. Нередко подводчики блуждали по студеной ладожской равнине, потеряв ориентировку на ее однообразных просторах. Случалось и так, что, сбившись с пути, они по ошибке приближались к шлиссельбургскому берегу и попадали под немецкие пулеметные очереди.
Хуже всего было в слепую ночную метелицу. Опознавательные вешки, которыми разметили трассу дорожники, в такую погоду незаметны. К тому же многие из них посбивало ветром, замело снежными сугробами.
Обозы пробирались ощупью по завьюженным тропам, а кругом бушевала метель, сквозь которую и в дневное время едва ли что-нибудь разглядишь.
Бойцы-подводчики честно выполнили свой долг. Многим из них пришлось поплатиться жизнью в эти первые дни борьбы за хлеб. Часто конные упряжки нарывались на бомбежку или вражеские засады. Еще чаще измученные лошади с обледеневшей сбруей и седыми гривами, проплутав всю ночь по озеру, возвращались наутро в Кобону, и с саней снимали трупы закоченевших ездовых.
Мешок ржаной муки, переправленный на западный берег, позволял тогда выдать паек тысяче жителей Ленинграда. Ради этого стоило идти на жертвы.
Не менее опасным был и воздушный путь. Экипажи транспортных самолетов умудрялись делать по пять-шесть рейсов за сутки, работая с предельной нагрузкой. И каждый такой рейс становился подвигом, достойным бессмертия.
Вот что произошло над Ладогой с летчиком Павлом Пилютовым.
С ответственным заданием из Ленинграда отправилась очередная девятка ЛИ–2. Аэродром в это время обстреливал враг. В самолеты наспех посадили воспитанников детских домов. Патрулировал девятку капитан Пилютов. Один, на маленьком лобастом «ишачке», он взялся уберечь транспортные самолеты и, в случае нужды, принять удар на себя.
Так он и сделал. Ввязался в бой с шестью фашистскими истребителями. Хитрил, изворачивался, тянул время, давая транспортникам возможность уйти. Сумел сбить две вражеские машины и в конце концов сам был тоже сбит. Двадцать одну рану зашили хирурги на теле этого храбреца. Зато все дети долетели до Большой земли невредимыми.
Люди, подобные коммунисту Пилютову, вкладывали в свой труд всю страсть, весь пламень горячих сердец. Не их вина была в том, что ладожская отдушина пропускала слишком мало кислорода в осажденный город: и конные обозы, и транспортная авиация просто не могли в то время решить проблемы снабжения Ленинграда.
20 ноября, спустя неделю после очередного снижения норм, ленинградцы узнали о новом сокращении хлебного пайка. Руководители обороны вынуждены были пойти на эту крайнюю меру.
Вся надежда была на скорое начало автомобильных перевозок.
Ранние ноябрьские морозы, к счастью, не сменились оттепелью, как это бывает при капризном ленинградском климате, а, наоборот, становились все крепче и крепче. Чувствовалось, что вот-вот конные обозы должны уступить место автотранспорту.
На озере шла деятельная подготовка. Дорожные батальоны работали над оборудованием ледовой трассы, готовя несколько грузовых «ниток» для одностороннего движения машин.
Каждую «нитку» дорожники расчищали от снега, обставляя надежными указателями пути. Кроме того, строились регулировочные посты – по одному на километр. Это были маленькие домики из снега и льда. На участках, где ледяной покров вызывал сомнение в своей надежности, сооружались объезды.
Связисты тянули линии связи, оборудовав к началу перевозок центральный ладожский телефонный узел «Русса» и промежуточные – «Зенит», «Форель» и «Звон». Метеорологи следили за малейшими изменениями погоды, беспрерывно замеряя толщину льда.
«Дороге жизни» требовались тысячи грузовых автомашин. По распоряжению Военного совета фронта, транспорт изъяли из полков и дивизий, стоявших на переднем крае обороны. Серьезно помогли партийные организации города. По их призыву на предприятиях и в учреждениях отбирались все грузовики, способные послужить Ладоге.
За трое суток напряженной работы удалось сформировать несколько новых автобатов. Свыше трехсот ленинградских коммунистов-шоферов влились в эти батальоны добровольцами. Они получили старенькие, отработавшие положенные сроки машины – все лучшее автохозяйства отдали фронту еще в первые недели войны. К чести коммунистов Ленинграда, они и на этих дряхлых грузовиках сумели добиться отличных результатов, заслуженно став общепризнанными вожаками ладожских шоферов.
Оборудовать и снабдить автотранспортом ледовую дорогу было половиной дела. Другая половина заключалась в том, чтобы надежно защитить будущую трассу.
Ведь проходила она всего в восьми – двенадцати километрах от передовых позиций противника.
На большом полукольце Кобона – Осиновец развернулось спешное строительство оборонительного пояса. Опорой его служила каменная гряда островов Зеленец, расположенных в восточной части Шлиссельбургской губы, в двадцати километрах от Осиновца. Специальные части сооружали здесь заградительный вал, а также сложную систему дзотов и снежно-ледяных окопов. Фланги оборонительного пояса поручили прикрывать сухопутным армиям, организующим круглосуточное дежурство лыжных патрулей.
К озеру подтянулись зенитные дивизионы. Некоторые из них вскоре перекочевали прямо на лед, чтобы открыть в случае нужды огонь по наземным целям.
Последующие события показали, что все эти заботы о надежной обороне ледовой трассы оказались отнюдь не напрасными.
Подготовка к автомобильным перевозкам шла по чрезвычайному графику Военного совета фронта, в котором учитывался каждый час. Не было тогда в Ленинграде ничего более срочного и жизненно необходимого – все силы, естественно, отдавались Ладоге.
2
«Трамваи не ходят. Потому ли, что нет тока, потому ли, что занесло снегом рельсы и все замерзло, а может быть, и потому, и по другому».
22 ноября из деревни Ваганово, расположенной на западном берегу Ладожского озера, отправилась первая колонна полуторатонных машин, которую возглавлял командир автобата майор Василий Порчунов. Полуторки шли в Кобону за хлебом.
Колонна Порчунова начала свой рейс буднично. Не слышно было в этот морозный вечер напутственных речей и громких слов, хотя закладывал он основу поистине дерзновенных дел. Лишь вагановские колхозницы, вышедшие на околицу деревни, чтобы проводить шоферов в дорогу, долго смотрели вслед уходящей колонне, а одна из них, рослая кряжистая старуха с крупными чертами лица, истово перекрестила последнюю полуторку:
– В час добрый, соколики!
Сам Порчунов вел головную машину. Кадровый военный автомобилист, он многое успел перевидать за годы своей кочевой службы: и сыпучие пески среднеазиатской пустыни, и устрашающий снежный наст заполярной тундры, и непроходимую грязь весенних распутиц где-нибудь под Воронежем или Рязанью. Но такие поездки, как в этот вечер, – по раннему озерному льду, с его коварными промоинами и полыньями, – не случалось совершать и Порчунову Командир автобата был достаточно опытен, чтобы заранее принять все необходимые меры предосторожности. Дверцы кабин он приказал оставить распахнутыми настежь, между машинами были установлены достаточно большие интервалы. На ледовый участок выехали с наступлением сумерек – в темноте едва ли подвергнешься бомбежке с воздуха.
Впрочем, все эти предосторожности, сами по себе разумные и правильные, не могли дать никакой гарантии против тонкого озерного льда. Кто его знает, выдержит он или не выдержит? На душе у водителей было неспокойно.
Колонна продвигалась вперед на малой скорости. С шестого километра, как и ожидал Порчунов, лед начал слегка потрескивать. Затем это потрескивание усилилось, став нестерпимо зловещим. Лед ощутимо раскачивался под колесами машин.
Каждый водитель чувствовал, что в любую минуту рискует оказаться в полынье. Нервное напряжение достигло предела. Еще недоставало тогда ладожским шоферам их изумительной выдержки, которой они так прославились позднее.
Пользоваться фарами Порчунов строжайше запретил. Ориентировались в кромешной темноте по красному глазку стоп-сигнала идущей впереди машины.
Через каждый километр пути встречался очередной регулировочный пост. Увидев грузовые машины, впервые идущие за хлебом в Кобону, регулировщики начинали размахивать своими фонарями, приветствуя шоферов-смельчаков.
Тихо было на Ладоге в тот вечер. Лишь в черном, беззвездном небе гудели над головой невидимые самолеты – это фашистские бомбардировщики возвращались с очередного налета на Ленинград.
До середины озера колонна добралась без происшествий. Волновавшее людей потрескивание ледяного покрова то усиливалось, то вдруг совсем прекращалось. Водители понемногу осмелели, стали прибавлять скорость.
Несчастье произошло на семнадцатом километре.
Как раз на этом отрезке пути выглянула из-за туч луна, озарив всю равнину бледным светом. Командир батальона нахмурился: случайная встреча с бомбардировщиками противника могла сорвать рейс.
И тут же Порчунов услышал позади себя глухой удар, напоминавший орудийный выстрел, затем чей-то сдавленный крик. Не теряя ни секунды, он выскочил из кабины своей машины и успел заметить, как один из грузовиков, задрав кверху порожний кузов, провалился в воду.
Майор побежал к этому месту, надеясь спасти водителя утонувшей машины. Возле края полыньи лежал человек. Порчунов сразу узнал его. Это был Кошкомбай Оспанов, хмурый и неразговорчивый казах, прибывший недавно в батальон с пополнением.
– Ушибся?
– Нога повредил, болит…
Комбат торопливо оттащил его от края полыньи. Сзади, ничего не подозревая, приближались остальные машины колонны. Еще немного – и все они окажутся в воде…
– Стой! – закричал Порчунов.
Шоферы не слышали. Тогда он выхватил пистолет и разрядил его в воздух.
Машины остановились. К дымящейся на морозе полынье уже спешили регулировщики. Тут же они начали ограждать полынью жердями, чтобы проходящие здесь конные обозы знали об опасности.
Порчунов усадил Кошкомбая к себе в кабину и приказал двигаться дальше. Впереди была незамерзающая майна, командиру батальона хотелось объехать ее при лунном свете.
Кошкомбай сидел рядом с Порчуновым и, по-детски всхлипывая, плакал.
– Неужели так сильно перепугался? – спросил комбат, искоса глянув на Кошкомбая.
– Машина жалка, товарищ майор! – ответил Кошкомбай и заплакал еще сильней. – Хороший был машина, зря пропадал, без польза…
– Да ты же сам мог утонуть, чудак-человек!
– Сам живой оставался – машина пропадал… Большой беда, товарищ майор…
Интервалы между полуторками были увеличены. После случая на семнадцатом километре чувство неуверенности снова охватило шоферов. Они напряженно прислушивались к потрескиванию льда под колесами машин и без конца крутили баранки, стараясь не наехать на опасные места. Но кто мог определить их в темноте, эти опасные места?