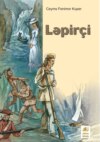Buch lesen: «Синенький скромный платочек. Скорбная повесть»
© Юз Алешковский, 2016
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Широкий читатель имени Юза Алешковского до сих пор практически не знает, хотя фильм по его книге «Кыш, два портфеля и целая неделя» видело не одно «подрастающее поколение», а его песня «Товарищ Сталин, вы большой ученый» на слуху у всех. Пока он жил в СССР, книжки печатал только детские («Два билета на электричку», «Чернобурая лиса», «Кыш и я в Крыму»), состоял в Союзе писателей, «потаенные» свои рукописи давал читать с большим выбором и за рубеж практически не выпускал: большинство из них увидело свет только после отъезда в эмиграцию (с конца 1970-х Алешковский живет в США). В биографии не было той «изюминки», на которую клюет книжный рынок, – родился в 1929 году, отсидел несколько лет после войны на Дальнем Востоке, работал шофером, стал детским писателем, – на что тут купишь читающую публику? И потому (а не только по причинам цензурного свойства) возвращение его тамошних публикаций в родные пределы задержалось до 1990 года, когда журнал «Искусство кино» напечатал повести «Кенгуру» и «Ру-ру (Русская рулетка)», альманах «Весть» издал «Николая Николаевича», «Рука» готовится к выходу в Эстонии, рассказы («Книга последних слов»), повести и романы – «Смерть в Москве», «Сломанная собака» ждут пока своего издателя.
Читатель «литературный», за редкими исключениями (впрочем, мал золотник, да дорог среди ценителей прозы Алешковского и Андрей Битов, и Сергей Бочаров, и Константин Щербаков), при этом имени досадливо морщится: сплошное хулиганство. Причем среди «супостатов» Алешковского не только и не столько официальные начальники, которым на роду написано относиться к нему с неприязнью, но и писатели с безупречной нравственностью и профессиональной репутацией. Так, в недавно опубликованной «Литературной газетой» внутренней рецензии старейшины прозаического цеха Олега Волкова на «Метрополь» все вошедшие в тот альманах материалы были разделены на хорошие, не очень и сплошное безобразие вроде Юза Алешковского. Не скрою: не была едина и редколлегия «ДН», когда решала, печатать нам «Синенький скромный платочек» или нет. Хотя «Скорбная повесть» вовсе не самое «крутое» его произведение, между тем как остальные книги пестрят лексикой из области «материально-телесного низа», и даже в названии издательства, где сам себя печатает миддлтаунец Юз Алешковский, в звуковой подтекст убрано лихое неблагозвучие «Писатель-издатель».
Кого-то возмущала неканоничность обращения к теме войны и «подвига советского народа» в ней. Кого-то жестокая вольность обращения с ключевыми фигурами коммунистической истории, Лениным и Марксом, обретающимися по воле автора в сумасшедшем доме Кто-то был смущен как бы нелитературностью, «приблатненностью» интонации На самом деле все это – и принципиальная неканоничность авторской позиции, и показная «нелитературность» Алешковского – звенья одной цепи, ибо перед нами автор, заведомо настроенный враждебно по отношению к любому мифу – историческому ли, философскому ли, языковому ли – независимо от его «идеологического наполнения» и потому расшатывающий литературные прикрытия мифологизированного сознания. Стоит ли удивляться после этого, что в наше насквозь политизированное время многие прочитывают «Скорбную повесть» как памфлет?..
Есть миф о фронтовике. Персонаж Алешковского, участник войны Леонид Ильич Байкин жил счастливо, пока совпадал с границами этого мифа. Стоило ему из «границ» выпасть, черту переступить, вспомнить о раздвоенности собственного сознания, о том, что прожил он чужую жизнь, поменяв свои «замаранные» документы на «чистые» документы убитого на войне товарища, как порушилась его внешне спокойная биография, но зато проснулась совесть, вернулась независимость и чувство правды. Письмо, которое пишет он из дурдома брезиденту Прежневу Юрию Андроповичу – свидетельство этого пробуждения от мифологического сна. Зато судьба его «довоенной» жены Нюшки, «утраченной» вместе с документами, являет пример противоположный. Из «розовой, после баньки», живой и непредсказуемой деревенской девицы превращается она в «женщину-мать», как бы встраиваясь в образ, отведенный ей идеологией.
Есть миф о революционном вожде. И потому, блистательно стилизуя ленинскую речь (Маркс в этом смысле Алешковскому удался значительно хуже) и заставляя своего «Вл. Ульянова», «Влиуля» писать на обороте Марксовой истории болезни бесконечные революционные обращения в Политбюро по бытовым, семейным и всемирно-историческим поводам, автор «Синенького скромного платочка» расшатывает и эти «устои»..
Но, несмотря на всю демонстративную неприбранность своих антимифологических текстов, Алешковский на самом деле строит их по строгим, классическим литературным законам. Сама тема дурдома автоматически пробуждает в его сознании чисто книжные переклички – в первую очередь, естественно, с «Записками сумасшедшего» и «Палатой №6» (читатель без труда узнает все параллели). Отсюда, как мне кажется, та усиленная слезливость «скорбной повести», на которую, конечно, все обратят внимание. Персонажи ее если не смеются, то плачут; автор, очевидно, надеялся, что читатель, омывшись в этих слезах, вспомнит прежде всего о звуках мещанской шарманки, деревенской «жалейки», а читатель вместо того вспоминает финал гоголевских «Записок»…. «Матушка! Пожалей о своем больном дитятке!..» Больше того, образ Ильича-первого появляется здесь не только по «идеологическим», но и по чисто ассоциативным причинам. Тот, кто воскликнул: «Вся Россия – палата №6», рано или поздно сам должен побывать в этой палате; тут уж никуда не денешься. Что же до «заниженности» языка, нахальном выворачивании «высоких» тем… Антураж, он и есть антураж. Все это не что иное, как способ литературными средствами стилизовать нелитературность, «жизненность», неприкрытость реальности.
Вопрос в другом, – насколько, работая в рамках отечественной культурной традиции (а в этом отношении Алешковский традиционалист до мозга костей), возможно действительно до конца демифологизироваться. Удачен ли тут опыт Юза Алешковского, не создает ли он своим текстом новую мифологию «Жизни как она есть», «народа, освобождающегося от идеологии», и т. д.? – будем разбираться позже, когда повесть окончательно войдет в наш читательский обиход.
А. Архангельский
***
Памяти матери, отца и брата
Гражданин генсек, маршал брезидент Прежнев Юрий Андропович!
К вам регулярно в течение двух лет обращается Байкин Леонид Ильич с криком чистосердечного признания и с просьбами о восстановлении справедливости, то есть – лично я, обросший ложью с головы до ног и провонявший страхом, как солдатская портянка периода окружения.
Ни ответа, как говорится, ни привета не имею, хотя лечащий враг, вот именно не врач, не доктор, но враг не отказывает мне лично в бумаге и говорит:
– Пиши, Байкин, пиши, но не буянь. Читать интересно эту абракадабру. С тобой не соскучишься. Я, – говорит, – докторскую скоро защищу по письмам твоим и по истории твоей болезни.
Но этого письма-заявления Втупякину не видать! Не видать! Знайте же: никакой я не Байкин Леонид Ильич, а Вдовушкин Петр, отчество забыл в наказание самому себе за давностью лет.
В этом месте слезы капают из глаз моих бесстыжих, обвожу ихние следы неровными кружочками в соответствии с формою клякс.
Плачу, но перехожу к делу, потому что бумаги мало. На истории болезни Карла Маркса пишу ввиду ротозейства проклятого оборотня Втупякина.
Третьего дня созвали нас на конференцию безумных читателей. Силком собрал, от телевизора оторвал лишением папирос-сигарет пригрозил.
– Вы, – говорит, – сволочи с манией преследования величия хлеб казенный тут жрете, советскую власть наихудшими помоями обливаете, на путь выздоровления от диссидентства вставать не желаете, но про «Малую землю» и слышать не хотите!
Вот и я хочу начать свое откровенное признание с того, что никакой «малой земли» на земле нету. Есть одна большая земля. Малая же земля – это луна, которая вызывает приливы крови к голове моей и соответственно отливы мочи сами знаете отчего.
Я воевал на земле, грешно жил на ней, натворил черт знает каких затей и завсегда считал луну землею малой.
Луну же в один прекрасный момент оккупировали американцы, в результате чего мы были вынуждены высадиться в Афганистане.
Так втолковал нам на конференции, после читки вслух «Малой земли», Втупякин.
Название вашенской книги надо переделать в интересах правды и назвать ее «луна». Если же назвать «Большая луна», то это несправедливо будет, вроде «Малой земли».
Ну, мы, конечно, вопросы задавали Втупякину насчет того, кто пишет за вас эти книги. Втупякин заявил, что, пока не сломлен империализм и внутренние диссиденты, ответ на такой вопрос является государственной партийной тайной, но что ленинскую премию за литературу поделят поровну между временно неизвестными писателями, наподобие того, как ее делят между космическими конструкторами и деятелями атомных бомб. А потом придет время и неизвестные писатели станут известными, чтобы народ наш узнал своих героев… Узнал бы! Узнал!
Тут я опять плачу невыносимо, потому что солдат-то неизвестный не я на самом деле, Вдовушкин Петр, а Байкин Леонид Ильич, и славы его всенародной не желаю, не хочу, настаиваю и протестую.
Жизнь прожита зря. Пора подводить итоги, маршал. Сдерживая слезы, перехожу к самым что ни на есть обстоятельствам второй мировой войны, но временно передаю перо Владимиру Ильичу, отлученному главврачом дурдома Втупякиным от чистой бумаги. Его-то за что держат тут? Ведь если б не он, то вся ваша шобла землю пахала, у станков стояла, делом занималась бы, а не развалом сельского хозяйства. Сосед по койке в корень смотрит. Передаю перо. Сам иду курить, чтобы сузить сосуды и слезы сдержать.
Товарищ генсек! Товарищи члены политбюро! Прошу срочно собрать экстренное заседание и разобрать чрезвычайное дело Вдовушкина Петра. Архинелепо не доверять в наше время признанию изолгавшегося негодяя. Товарищ Вдовушкин, находясь с 22 июня 1941 года в рядах Красной Армии, пытался скрыть сыновнее родство с расстрелянным врагом народа ярым кронштадцем Вдовушкиным (sic!) С этой целью Вдовушкин-сын (курсив мой. В. Л.) в смертельном бою обменял свои документы на документы Байкина Леонида Ильича. Эрнст Мах может краснеть, ибо народ метко заклеймил подобные штучки чудеснейшим глаголом «махнуться».
Священный долг коммунистов не только поддержать тов. Вдовушкина, но и организовать решительное наступление на стратегические и сырьевые интересы США во всех важнейших регионах мира (см. посланные мною еще в июне на изнанке молочного пакета январские тезисы). Только тупицы из шайки Маха – Авенариуса не могут понять, что закопанный в первичное, эрго, в материю, неизвестный солдат является Байкиным Леонидом Ильичом, а находившийся в идеалистическом состоянии Вдовушкин Петр – сын злейшего крондштадца и тред-юниониста Вдовушкина старшего.
Смерти подобно ослабление нашей титанической борьбы с мировым общественным мнением – этим гнусным служакой империализма. Оно (общественное мнение, примеч. верно. – В. Л.) якобы обоснованно (см. мою докладную записку XIV съезду. В. Л.) считает нашу поддержку нац. осв. движения всего-навсего стратегически хитрой мотивировкой, фактически фиговым листком (курсив мой. – В. Л.), прикрывающим гегемонистские неоимперские цели родины социализма. Передайте большевистское мерси советским композиторам за их нечеловеческую музыку. После нее хочется бить по головкам и левых, и правых, и центристов. Всех! Должен признаться, что чтение вашей трилогии обнадежило меня в том, что мы придем к победе коммунистического труда в литературе над трудом одиночек, этих беспартийных снобов, окончательно погрязших в болоте так называемого самовыражения.
Пусть ЦК обратят внимание на то, что я фактически лишен писчей бумаги, а переписка с политбюро на истории болезни Карла Маркса – вопиющий нонсенс. Чувствую себя хорошо. Питание преотвратнейшее. Хочется временами чего-нибудь вкусненького. Пора завоевать общий рынок с его несметными продзапасами. Жду свидания с Наденькой. Вот выпишусь и доспорим с путаником Сусловым относительно опасности обуржуазивания партбюрократии совноменклатуры. С комприветиком. Вл. Ульянов (Ленин).
P. S. Все разговорчики о моей мании величия не что иное, как происки господ отзовистов и часть плана ликвидации нашей партии.
Р. S. S. Электрон практически неисчерпаем.
P.S. S. S. Надеюсь, что решение политбюро о тов. Вдовушкине будет положительным, поскольку советские профсоюзы – школа коммунизма.
Ваш Вл. Ленин (Ульянов).
Вот, маршал, и покурил солдат Вдовушкин. В сортире чего только не наслушаешься. Сразу тянет хохотать, а не плакать – слезы лить – о погибшей понапрасну жизни.
В блоке нашем имеется пара душ диссидентов. Втупякин их называет по-медицински чокнутыми шизиками. Непонятно это, маршал. Непонятно. Люди все правильно говорят, все до правдивости подчеркивают, от себя ни слова не прибавляют, а их – в дурдом! Я своим крестьянским умом мало чего в социальной жизни понимаю. Но я вижу простым незамутненным оком, что колхозы – говно и хуже крепостного строя в тыщу раз, а рабочий – раб малооплачиваемый и пьющий вусмерть. Что, вы сами что ли не видите? А верить в Бога почему людям не велите? Верно люди говорят, что только в старом Риме христианам было хуже, чем сейчас. Человек на Пасху в церкву пошел, а его лягавые мало того, что не пустили, но еще и бока, сволочи, намяли, и безумцем объявили, чтобы право отбить жаловаться прокурору на инвалидные побои со стороны милиции. Какое уж тут право человеческое? У собаки и то больше человеческих прав, чем у людей. Она хоть лает и куснуть в случае чего может. Мы же – терпи и не гавкай, не то в дурдом – под электрошок, инсулин и проклятую химию!
А ведь диссиденты все вежливые, культурные и внимательные, с Втупякиным в спор не вступают из-за поганой пищи и прочих многочисленных мытарств. Душевные они люди, маршал, и народ свой русский любят, еврейский, татарский, украинский, армянский и литовский не меньше вашего. Вот могли ведь сейчас в сортире Ленина поколотить, а не поколотили. Ведь он приходит и говорит:
– Поставлю вопрос об экспроприации сигарет у врагов коммунизма и революции! Курение, – говорит, – это никотин для народа!
Ну, Карл Маркс и набросился на Владимира Ильича с пеной на губах.
– Ты, – орет, – учение мое обдристал и меня с дерьмом смешал, а еще молодому Марксу курить не даешь, большевистская рожа, сифилитик, садист!
Еле Ильича отняли у Карлы. Его-то за что держат тут? А, главное, бороду ему Втупякин не разрешает отращивать. Ты, говорит, вовсе не молодой Маркс, а проходимец, кассу обокрал, основоположником теперь прикидываешься! Не положена тебе борода никогда?
А я так считаю: поскольку человек без бороды не похож, конечно, на Карла Маркса, то надо разрешить ему отращивать бороду, а уж потом глядеть, кто он таков есть на самом деле. Может, он даже не Карл Маркс, а Энгельс или какой-нибудь Лев Толстой. Неужели, маршал, непонятно это?
Я вот пишу, а когда слезы душат, историю Марксовой болезни читаю. Никакая это не болезнь. Верно все человек говорит, верно. Ни в коем случае нельзя в наше время пролетариям соединяться. У нас-то ведь в семнадцатом соединились они – тут всем им и крышка пришла. Прихлопнули их Ленин со Сталиным вместе с ихней диктатурой как зайцев и теперь, как говорится, ни бзднуть, ни пернуть измученной душе.
Перехожу, однако, к своему делу. Как сейчас помню, башка на части рвется, душа в пятки ушла, что делать, не знаем никто, снаряды с минами рвутся, пули вжикают, вверху рев, с боков крики, стоны, каша кровавая, только рядом человек был, старшина, смотрю – голова евонная в каске лежит, как бы в миске глубокой, и ухмыляется, глаза на меня снизу вверх так и таращит, а где сам, неизвестно. Не видать ничего в дыму. Где фронт? Где тыл? Где фланги? Ничего не видать. Только комиссар орет: «За Родину! За Сталина, сволочи, за власть Советов!» А я бы и рад, может, за родину помереть, всем миром все же помирали, но за Сталина помирать, было в душе такое мнение, ни за что мне не хотелось. Плевал я на него сколько себя помню. Разве же не сумасшедшее это дело помирать за кровопийцу, который родителей твоих расстрелял и тебя самого чуть не извел, спасибо бабка в деревню увезла? Потом к тому же землю отнял, в колхоз загнал, жилы все из нас вытянул, с Гитлером дружбу завел. Мало того, что завел, скотину нашу на ливерную колбасу к нему погнал. Мы же девятый хер без соли доедали, простите, маршал, за выражение.
Так вот, как услышу «за родину», так вперед меня тянет, врукопашную, страха нету ни в пятках, ни в душе. Как добавит комиссар «за Сталина», так словно кто подножку мне ставит и заворачивает силком в другую, значит, от врага сторону. И со многими солдатами, по-моему, то же самое происходило. Почему бы мы тогда отступали и отступили по самую Москву? Только по этой причине. Других, по моим прикидкам, не было. Никакая сила, маршал, не помешает солдату помереть за родину. Верно?
А комиссаров у нас сменилось за месяц с начала войны – тьма. Им же велено было вперед выбегать, «за родину, за Сталина» орать. Вот они и выбегали поначалу и орали. Тут их и подстреливали, безголовых, или в плен брали, потому что летят они сломя голову с «ТТ» в руках, а солдаты на 180 градусов и снова – ничком в окоп, коленки в подбородки вжимать, Богу молиться о спасении от муки смертной. Тогда приказ Сталин дал, чуял, сволочь, что солдат помирать за него не хочет, забегать комиссарам не вперед, а назад, в тыл солдатам, и шпокать, без сомнения, в лоб каждого отступающего. Тут комиссары пуще прежнего вопить стали «за родину, за Сталина». Глотки-то у них с семнадцатого года луженые и, главное дело, орать то одну пустобрешину, то иную.
Что делать солдату? Гитлер на него танками прет, бомбы сверху на него сыплет, пулями свет Божий прошил, нету мочи сопротивляться; С тылу же комиссар гонит тебя, клонит, как травиночку, под косящую косу мосластой шкелетены, смерти то есть. Что солдату делать? Ежели помереть в два счета, а это проще простого, что с Родиной-то станет? Может, Сталин с Гитлером столковались, чтоб извести нас всех с лица земли, зажали с двух концов, спереди танки-минометы, сзади – комиссары. Правда, к каждому солдату комиссара не приставишь. Народу больше было, слава Богу, чем ихнего горластого брата. И это решило судьбу войны. Сминал солдат комиссара, назад откатывался, отступал, так сказать, жизнь спасая для будущего боя, и зло лишь брало, что сталинскую рябую усатую харю спасал тем самым вместе с Родиной.
Ладно, думалось, при, фюрер, при, зараза волчья, прите, крысы фашизма. Заманим мы вас по-кутузовски в конце концов в такую крысоловку, что кровью похаркаете почище, чем мы харкаем сейчас.
Победили мы? Победили. Сам солдат победил, гражданин генсек, а не ваши комиссарские глотки. Солдат победил всенародный, и я – русский Иван в том числе, а не вы – маршал-генералиссимус с золотой сабелькой и тремя «героями». Стыдно. Стыдно, генсек.
Ох, как зарыдал я тогда от стыда неимоверного, невыносимого, самой смерти страшней который, как я тогда. Господи, зарыдал. Век не забуду.
Помните, генсек? Никиту вы скинули, сами к креслу приросли и, разумеется, постепенно зажрались. А своре вашей только того и надо. Облизывать вас принялись, бесстыжие, на глазах всего честного народа. Одну звездочку геройскую дали, затем вторую. Затем сабельку золотую на белых партийных рученьках поднесли. Вы ее приняли с важным видом. Затем маршала вломили вам. Бриллианты на шею повесили, словно царю-батюшке, а вы и бровями не пошевелили. Не проснулась в вас совесть, не обмерла от нахальства душа, не сказали вы своим жополизам с серьезными партийными лицами: «Буде, братцы. Вы уж …тово… перегнули слегка».
Не сказали, не взяли сабельку золотую и все ваши дармовые звезды с бриллиантами, не отнесли их к Кремлевской стене на могилу Неизвестного Солдата, не положили на красный мрамор рядом с синим огнем и не извинились перед безмолвным навек прахом следующим образом:
– Прости, солдат. Прости. От души говорю. Зажрался. С вождями это бывает. Твое это – все золото, бриллианты, сабли, ордена, медали, прости. Может, не погибни, сидел бы ты сейчас на моем месте, а я лежал бы себе тут в покое и тишине исполненного долга. Никакой я, конечно, судьбы войны не решил, будучи кадровым комиссаром, а лишь печать ставил на партбилеты после боя и выжившим их вручал, священнодействуя как бы. И не был я, солдат, душою новороссийской операции. Прости. Но и пойми; не может народ без чего-либо такого, что напоминает ему царя-батюшку, чтобы хоть повздыхал народ, избывая тоску свою с семнадцатого года, глядя на грудь богатырскую маршальскую, орденами увешанную. Народ – он что ребенок. Если батька помер – отчима ему подавай. Не для себя лично вешаем мы на мундиры все эти погремушки-побрякушки, поверь, а исключительно для народа, для веселия его душевного и развлекательности зрения. Так что прости, солдат. Царство тебе небесное!
Сделали вы так, генсек? Сказали вы так, маршал? Нет! А я сказал и сделал.
Гляжу на вас тогда по телику и чую вдруг: белеет лицо мое, не краснеет, а именно белеет от смертельного стыда, растерзавшего разрывной пулей совесть и душу.
Боже мой. Что я наделал? Как я жил?.. Рыдания враз затрясли меня, почище инсулинового шока…
Бегу, не в силах жить на земле в прежнем образе, прямо на могилку Неизвестного Солдата, то есть самого себя, вернее Вдовушкина Петра, но в конечном счете Байкина Леонида Ильича, каковым и числюсь по истории болезни, приписанной мне Втупякиным – кандидатом сумасшедших наук.
Разъяснения потом. Все разъяснения потом, ибо, сдерживая слезы, стараюсь изложить непременное и главное.
Прибегаю, реву не в голос, по-бабьи, а внутрях и стенаю так, что ребрышко каждое холодной болью продувается, и чую некоторую предпоследнюю опустелость, нечто вроде смерти, одним словом.
Падаю на колени перед негасимым синим огнем с розовым венчиком от дождя осеннего, моросящего, падаю, ударяюсь о мраморный гранит кающимся лбом и стенаю:
– Леня! Все сделаю. Все. Ты тут будешь лежать, а не я. Прости. Не надо мне славы твоей посмертной. Я ведь думал, что живой – я, а ты – мертвый, но все теперь наоборот. Прости… Исправлю такое положение? Незамедлительно исправлю. Все на свои места встанет. Жизнь доживу вполне откровенно, а у тебя времени – до Страшного Суда, перед которым могу предстать хоть сейчас, ибо отдаленность его для меня – пытка. Пытка. Прости, Леня!
Лечу, словно птица на одном крыле, обратно домой. Беру фанеры лист. Палку к нему прибиваю. Пишу на фанере чернильным карандашом, как на посылках в деревню временами:
ЗДЕСЬ НАВЕКИ ЗАХОРОНЕН ИЗВЕСТНЫЙ РЯДОВОЙ СОЛДАТ Л. И. БАЙКИН.
«Погиб смертью храбрых» не стал я писать, так как это было бы неправдой. Не было ни в нем тогда, ни во мне никакой храбрости, а лишь страсть была спасти солдатские наши, нужные Родине жизни от непростительной, дураковатой смерти, на которую, маршал, жестоко и подло обрекли нас Гитлер со своим дружком Сталиным.
Несу плакат на могилу, несу с легкостью необыкновенной, хотя корчусь от въевшегося в душу стыда… Дождь льет. Ветер под дых колошматит, плакат из рук выбивает и вырывает…
Вбиваю его булыгой случайной с правой стороны могилы в землю. Крест пририсовываю наш православный над фамилией и говорю:
– Хватит, Леня. Будь ты Байкиным теперь самим собою, а я принимаю прежнее истинное свое имя Вдовушкина Петра. Прости.
С этими словами ухожу… Дома радуюсь, ну прямо как маленький мальчик. Чист! Чист! Главное – чист, а все остальное приложится: и возмездье за злодейство многолетнее, и пользование чужой славой в корыстных целях, и так далее и все такое прочее…
Хлобыстнул самогонки. Откуда у отечественного инвалида деньги на водку, маршал? Нас каждый божий день не зовут в кремлевский дворец жрать «столицу» и балыком ее же занюхивать. Мы самогонку гоним. И на том спасибо…
Весело мне, одним словом, в комнатенке моей бобылевской. Соседи дрыхнут. На работу им завтра. А если и разбудил я их пьяной, ранней и радостной своей песней, то попробуй сделай мне в такой момент замечание. Боже упаси! Протезом враз отколошмачу.
Всю ночь пою, надрываюсь… «идет война народная, священная война. 22 июня ровно в четыре часа… синенький скромный платочек падал с опущенных плеч…,и у детской кроватки тайком ты слезу вытираешь…»
Пою и плачу, как вот сейчас. Но сейчас нету радости в моей душе и просвета искупления. Лишь гнев в ней, маршал, один гнев и обида на допущенные издевательства над телом и совестью инвалида… Но ладно…
Сижу, значит, пою, видение лица жены моей законной Нюшки, Настеньки, Анастасии усилием воли своей, покалеченной жизнью, прогоняю. Протез снял. Культя блаженно от него отдыхает. А сама нога моя правая, знаете где, маршал? В могиле на площади Революции, рядышком с костями известного на самом деле солдата, а не неизвестного, рядом с Байкиным Леонидом Ильичом, другом моим боевым, верней, рядом с тем, что от него осталось… Плачу и пою – собака одинокая и затравленная наконец-то мстительной судьбой…
И то ли примечталось, то ли приснилось, но явственно вижу себя на поле того последнего моего боя, волокущего по грязище, по развозу осеннему Леню, друга моего, который начисто потерял от ужаса, унижения отступления, от заброшенности нашей солдатской желание продолжать жизнь. Потерял и – все.
Но во мне-то тогда силенок было, маршал, на две-три жизни. Семижильный был парень, с руками, с ногами, с рожей веселой, с головой не тупой, с добрым сердцем – нормальный, одним словом, русский человек, не до конца еще припохабленный советской крысиной властью…
Ад дьявольский по сравнению с тем полем боя домом отдыха, думается мне, был… На взрывы всякие, крики, стоны, пули, осколков свист, штурмовиков вой я уж вниманья не обращал. Ибо такая запредельная тоска пронизывала мне душу от того, что ползли мы по растерзанному, неубранному полю побитой, вытоптанной, втоптанной в прах земли, выжженной ржи, что кроме тощищи этой и настырной силы, внушенной свыше, ничего во мне не было. Ничего.
– Леня, – хриплю яростно, – Леня, Бога побойся, пошевели ноженьками и рученьками, пошевели, не то не выползем мы, даже в плен не возьмут нас – такие жалкие мы и страшные небось, ползи, родной, спастись надо, а то кому же гнать обратно с поля нашего ржаного гадостное это воронье, фюреровские усики, сталинскую рожу рябую, пожалей, Леня, себя и меня..
Немного оставалось нам до низинки, до деревцев, измочаленных жутким железом… От танка спаслись. Прямо на нас пер. Окопчик нас спас. Танк дальше, в плоть земли нашей поперся, и вонища от него была, как от первого моего в жизни трактора. Как сейчас помню. Приятная такая дизельная вонища… Ужас вокруг, а душу захолонуло от страсти по мирному труду на крестьянском поле…
Окопчик от танка нас спас, но он же Леню и погубил.
Я уж думал: все – спасены… темнеет… до низинки дотянем, а там уж у пенька какого-нибудь прикорнем… черт с нею, с едой… сон важнее человеку любой еды… суток трое мы уже не спали… за что, Господи, такие дадены нам Тобою муки ужасные?
В этот-то момент и рвануло-шарахнуло до полного оглушения. Даже не знаю: успел я услышать сам взрыв или не успел… Неважно.
Отряхаюсь от земли, промаргиваюсь, дыхание налаживаю. Жив я – окаянный. Леня, мой друг, рядышком лежит, словно спит, глаза закрыты, на губах – улыбка ребеночка. Потормошил я его слегка, а тормошить-то было нечего. Каша одна с костями от Лени осталась. Лицо лишь не тронуто. Весь взрыв на Леню пришелся. Тем и спасен я был, но непоправимо ранен. Лежу я поначалу и не ведаю: то ли жалеть друга, то ли радоваться за него. Не знает в такие времена человек, что лучше. Но живым жить надо.
Дрыгнул одной ногой – на месте. Дрыгнул второй – нету у меня второй ноги. Ясно это, причем без всякой в первые минуты боли. Мог бы ведь безболезненно уснуть и кровью во сне истечь до смерти. А почему боли не было – пускай Втупякин думает, на то он и кандидат наук. Может, еще тогда весь мозг от взрыва раком поставило. Не знаю, маршал.
Тянусь рукою к бедной ноге, неужели, думаю, по самую жопу отхватило, тогда хана… Но – нет. До коленки дотянулся – счастьем меня просто пронзило: цела коленка. Цела, Господи, спасибо Тебе за муки и спасение с частичными потерями.
Пальца на три ниже колена отрыв пришелся. Накладываю жгут, останавливаю кровь, брезентовый ремешок пригодился. Городской человек на моем месте сразу же или немного погодя дуба врезал бы, а я – человек крестьянский, – губа не дура, мудер был с малолетства. Сам противогаз, как только обмундировали нас, выкинул я к едрене фене, а сумку набил жизненно важными причиндалами. Бинты. Махорка. Чай. Соль. Йод. Сухариков, правда, не осталось в сумке. Рубанули мы их с Леней… Ну, и прочая мелкая штуковина была там вроде ножа, ложки, неважно, впрочем, все это, маршал…
Обрабатываю культю йодом. Онемела культя от жгута. Не чую боли. Йод не щиплет, совсем как вода… Может, контузило так, что стебанулся я? Страшна, маршал, боль, но и без боли в таком происшествии тоже жутковато… Перевязал. Весь бинт на культю ушел. Что голова вся в крови – это я уже не говорю. Это пустяковина.
В глазах черно, между прочим, ночь в глазах, но не придаю я этому значения. А в ушах – тишина. Но бой идет. Чую лишь по сотрясению почвы… Беспамятство вдруг одолело меня, а может, кровищи потерял много и от этого внезапно испекся… Не знаю, сколько времени так прошло…
Очухиваюсь… Фу ты. Есть в глазах свет, в ушах звук, слава Тебе, Господи. Хотя понимаю, что действуют глаза мои и уши не в полную мощь. А были они у меня на удивление, как у собаки, кошки и птицы. Неважно. Лишь бы, думаю, духом не изойти до конца.
Бой, кстати, все еще идет… Медсестер не видать нигде… Поубивало небось сестричек, перебило деточек бедных… Сколько времени, непонятно…
Танки немецкие вроде бы назад откатились. Это я из окопчика зыркаю. Каску Ленину надел. Моя осколком пробита. Но спасла, однако, спасла…
Контратака наша бесполезная, смотрю, пошла. Понимаю, что чуют солдаты гибельную опасность такого боя, всю зряшность его чуют, нету в них духовитости ни на грамм. Какая уж тут духовитость? Одно лишь покорное уныние.
Но Втупякин-то прет – комиссарище – сзади, за Родину! За Сталина! – орет. На верную ведь смерть сволочь глупая и тупая, думаю, гонит солдатиков. На верную. На стопроцентную.
Der kostenlose Auszug ist beendet.