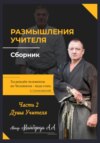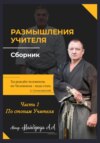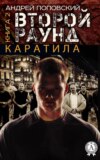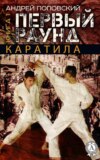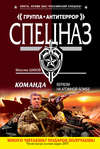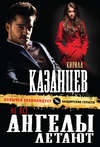Buch lesen: «Жизнь прожить – не поле перейти – 2. Дети. Книга II»
© Владимир Виленович Лиштванов, 2020
ISBN 978-5-4493-3524-1 (т. 2)
ISBN 978-5-4493-3525-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава первая
21 июня 1941 года братья Ливановы ждали с большим нетерпением. В этот день возвращался из Киева отец.
Ефима Семёновича весной прошлого года назначили управляющим Межрайонной Аптечной Конторой Старого Оскола.
Чтоб он лучше выполнял служебные обязанности, вскоре его направили на курсы повышения квалификации. С сентября 1940 года, он стал обучаться на курсах усовершенствования фармацевтов при Киевском фармацевтическом институте.
В середине июня 1941 года учёба завершилась, и в эту субботу он возвращался домой.
Карл закончил десятый класс и накануне получил аттестат о среднем образовании с неплохими результатами. Парня распирало желание поделиться собственными успехами в учёбе.
Он жутко хотел показать оценки отцу.
Карл мечтал, как и брат, поступить в аэроклуб и выучиться обязательно на лётчика.
Вилен, курсант аэроклуба, спешил поделиться с отцом достигнутыми успехами.
Окончив среднюю школу в позапрошлом году, Вилен решил посвятить жизнь авиации.
Он попытался стать лётчиком в Курском аэроклубе в тот год, но оказалось, что не всё так просто. Курсантами принимали с 18 лет из числа рабочих, или колхозников, и обязательно по рекомендации комитета комсомола той организации, где работал.
В Старом Осколе промышленные предприятия практически отсутствовали, и рабочим становиться было проблематично.
Тогда Вилен решил работать колхозником, но в члены колхоза его с первого раза не взяли.
Только в феврале 1940 года, парня приняли в колхоз «Большевик», деревни Ямская Старооскольского района Курской области.
Он стал скотником. Зимой чистил помещения, где содержались животные, давал им корм и воду, ухаживал за ними.
Летом работал пастухом. Ему нравилось возиться с животными, но мечту о небе не оставлял. В колхозе его приняли в комсомол.
Проработав десять месяцев, Вилен повторил попытку стать курсантом аэроклуба.
Трудовой стаж колхозника, да рекомендация комсомольской организации колхоза, позволяли это сделать, но медкомиссия поставила преграду.
У него нашли лёгкую степень близорукости, а пилоту нужно 100% зрение.
Врачи не разрешили становиться лётчиком. Вилен страшно расстроился, что мечта не осуществиться.
– Мы можем принять вас в группу парашютистов, – предложили в приёмной комиссии, – а заодно получите военные специальности радиста и телефониста.
– Хорошо, я согласен, – проговорил он, когда обдумал предложение.
Так Вилен стал курсантом Курского аэроклуба в декабре 1940 года.
Занятия начались с теоретической подготовки. Курсанты знакомились с парашютом, запоминали, как его правильно укладывать, изучали необходимые действия при прыжках с ним.
А также осваивали радиостанции и телефоны, тренировались передавать сообщения азбукой Морзе.
Весной 1941 года начались практические занятия по прыжкам с парашютом.
Первый прыжок даже не запомнился. Всё прошло гладко, как учили. Вилен осознал, что прыгнул с парашютом, когда приземлился на согнутые в коленях ноги.
Второй прыжок прошёл иначе. В первые минуты, когда взлетели, у него началась предательская нервная дрожь.
Организм бунтовал от всего одной мысли, что надо будет покинуть салон аэроплана и ступить в многометровую зияющую пустоту. Сердце бешено колотилось, точно мигом желая вырваться из груди, кровь ударила в голову и учащённо пульсировала.
Инстинкт самосохранения не давал успокоиться. С огромным трудом Вилену удалось перебороть организм и как учили, покинуть аэроплан. Отсчитав положенное количество секунд, дёрнул за кольцо и с облегчением услышал хлопок. Вскоре увидел над головой, как раскрылся белоснежный купол парашюта.
Последующие прыжки пошли буднично, без сильного нервного напряжения.
Ефим Семёнович приехал домой к вечеру и радостно встретился с домочадцами. Он привёз жене и детям кучу гостинцев из Киева. Сыновья поочерёдно сообщили отцу об успехах. В честь приезда мужа, Нина Ягоровна организовала праздничный ужин. Она сделала чудесное сациви, из большой индейки, состряпала лобио, приготовила хинкали и хачапури.
Сыновья активно участвовали в приготовлении ужина. Они с огромным удовольствием помогали матери очистить от скорлупы и растереть в большой ступке грецкие орехи, очистить и давить чеснок для сациви, начинять фаршем хинкали.
Всё это Нина Ягоровна подала на стол, когда муж с сыновьями помыли руки и расположились за столом.
В честь долгожданного прибытия супруга она поставила на стол кувшин домашнего вина из отцовского винограда.
Ефим Семёнович разлил всем по бокалам вина, поднял свой и произнёс тост:
– Наконец-то мы собрались вместе. Я доволен, что Карл хорошо окончил школу, а Вилен успешно занимается в аэроклубе. Чтоб свершились все мечты вам необходимо трудолюбие и прекрасное здоровье. Поэтому я поднимаю этот бокал за ваше здоровье. Чтоб оно вас не подводило.
– Спасибо отец, – дружно проговорили братья.
Ефим Семёнович не кривил душой. Он искренне радовался успехам детей. За девять месяцев отсутствия, они достигли многого. Да и внешне сыновья изменились.
Вилен хоть и не подрос, но возмужал. Взгляд его карих глаз из-под чёрных, грозно насупленных бровей, излучал решительность взрослого человека.
Широкий лоб и крупный грузинский нос всё больше делали его похожим на тестя.
Карл тоже – вылитый отец жены, а сейчас это сходство только усилилось. В отличие от Вилена, он немного подрос и посерьёзнел.
Чтоб доставить приятное сыновьям, Ефим Семёнович предложил:
– Завтра выходной, а не пойти ли нам всем вместе на речку?
– Я за, – мгновенно отреагировал Карл.
– Я тоже не против, – поддержал брата Вилен.
– А я собиралась устроить стирку, – озабоченно проговорила Нина Ягоровна.
– Тогда ты стирай, а мы с ребятами утром сходим на речку, – сказал Ефим Семёнович, – а днём вернёмся, и мальчишки помогут тебе повесить бельё сушиться.
– Хорошо, – согласилась Нина Ягоровна.
Так они и сделали. На следующее утро Ефим Семёнович встал в шесть часов.
Под весёлую, мелодичную музыку, передаваемую по радио, он сделал зарядку, затем умылся и побрился.
Вскоре проснулись сыновья. Они дружно встали и пошли приводить себя в порядок.
Когда ребята умывались, Нина Ягоровна накрыла на стол и позвала мужчин завтракать.
После еды, Ефим Семёнович с сыновьями отправились на реку, а Нина Ягоровна принялась за стирку.
На речке Ефим Семёнович решил вначале позагорать на берегу, а мальчишки разделись и бросились в воду. Они плескались и резвились, как дети, устраивали заплывы, обгоняли друг друга. То начинали нырять в воду, они соревновались, кто дольше проплывёт под водой не всплывая.
Отец наблюдал за ними с большой любовью, и думал:
– В августе обязательно возьму отпуск, договорюсь с заведующим аптекой, чтоб жену отпустили и вместе с детьми поедим в Ианети к тестю с тёщей. От них море недалеко и пяток дней можем отдохнуть на побережье.
В это время Карл с Виленом вышли из воды и улеглись на горячий прибрежный песок. Ефим Семёнович решил тоже искупаться. Он зашёл в прохладную воду, обмыл тело и бросился в объятья речной стихии. После этого медленно поплыл, он с упоением наслаждался водными процедурами. Поплавав минут десять, он вышел на берег.
Ребятам надоело неподвижно лежать на песке, и они затеяли игру в салки прямо на берегу.
– Что, орлы, – окликнул отец, – не пора ли нам домой?
– Пора, – согласился Карл не раздумывая.
– Давайте полчасика поплаваем, – предложил Вилен.
– Нет, надо собираться, – строго проговорил отец.
За то время что Ефим Семёнович вытирал тело полотенцем, ребята успели одеться и собрать вещи. Он тоже оделся, и мужчины отправились домой.
Солнце неотвратимо поднялось в зенит, оно посылало жару с безоблачного синего неба. Горячий воздух обдувал тело. Вскоре вся прохлада, от купания в реке исчезла, а на смену пришло ощущение духоты.
Хотя и наличествовала середина воскресного дня, на улице находилось незначительное количество людей. Все они спешили по делам с серьёзными лицами, в возвышенно-сосредоточенном состоянии. У многих женщин глаза застилали слёзы.
– Что случилось? – спросил Ефим Семёнович у одной из них.
– Началась война, – ответила та и печально пошла вдоль дороги.
Отец с сыновьями, не сговариваясь, прибавили шаг. Вскоре мужчины подошли к дому. В квартире их встретила Нина Ягоровна, с красными от слёз глазами. Чуткое сердце матери тревожно щемило и не давало женщине покою на фоне нависшей беды.
– В полдень выступал Молотов по радио. Он сказал, что Германия напала на нас, – с великим трудом сдерживая слёзы, сообщила она.
– С четырнадцатого по восемнадцатый год мы с германцами активно воевали, но из этого они не извлекли уроки. Придётся браться за оружие, – хмуро проговорил Ефим Семёнович.
На следующий день, с утра, отец с сыновьями отправился на призывной пункт.
Около него столпилась куча народу. Мужчины различных возрастов стояли перед призывным пунктом в ожидании дальнейших указаний. Многие тихо обсуждали последние новости. Паника отсутствовала. Все находились в полной уверенности, что врага обязательно разобьём. Одни говорили, что это произойдёт за пять, шесть дней, другие – через две, четыре недели. Третьи считали, что война будет длительной, но победа обязательно останется за нами.
Вскоре вышел лейтенант и сообщил:
– Граждане, согласно указу Президиума Верховного Совета СССР, будет осуществляться мобилизация военнообязанных 1905—1918 годов рождения.
– А что делать тем, у кого другие года рождения? – спросили из толпы.
– Возвращайтесь домой и ждите. Если понадобитесь, то вас вызовут повесткой.
Вилен с Карлом отправились домой, а Ефим Семёнович пошёл на службу.
Рабочий день в Межрайонной Аптечной Конторе шёл размеренно, по точно налаженному графику, складывалось впечатление, что никакая война и не начиналась.
Ефим Семёнович прошёл к себе в кабинет и тотчас набрал номер телефона руководства в Курске.
– Хорошо, что позвонил, – услышал он деловитый бас управляющего Курским Аптекоуправлением на том конце провода, – когда вернулся с курсов?
– В субботу вечером.
– Ты знаешь о вчерашних событиях?
– Да, слышал. Я военный фельдшер и хочу идти на фронт.
– А в советском тылу кто работать будут? – зло проговорил управляющий, явно он тоже просился на фронт, но не пустили, – Для тебя и в конторе работы хватит. Надо переводить всю деятельность на военный лад.
– Я хотел попроситься на фронт.
– С ружьями дай возможность молодым побегать. Ты нужен на служебном месте, для обеспечения бесперебойной работы.
– Но Степан Николаевич…, – начал уговаривать Ефим Семёнович.
– И никаких «но»! – резко прервал управляющий Аптекоуправлением, – Завтра утром у нас совещание, жду тебя к десяти часам с определёнными предложениями по деятельности конторы в военное время.
– Хорошо, я буду в назначенный срок.
Глава вторая
На третий день войны братья Ливановы получили повестки и, к общей радости ребят, вскоре их призвали в армию.
Карла направили красноармейцем на Северный фронт в Полярную дивизию.
Вилена, кто официально получил в аэроклубе воинскую специальность связиста, отправили рядовым бойцом в действующую армию западного фронта, в 111 стрелковый полк 55 стрелковой дивизии.
Это воинское подразделение сформировали в сентябре 1925 года в Московском военном округе.
12 января 1926 года 55 дивизии дали название «Курская», 26 июля 1926 года присвоили имя К. Е. Ворошилова. С 1925 по 1939 год эта воинская часть дислоцировалась в городе Курске. Принимала участие в боевых действиях в Западной Белоруссии в сентябре 1939 года.
По состоянию на 2 октября 1939 года входила в основной состав 23 стрелкового корпуса 4 армии Белорусского фронта.
После освобождения Западной Белоруссии основные силы дивизии располагались в Брестской крепости. В конце 1940 года возникла необходимость разгрузить цитадель и усилить левый фланг 4 армии.
Дивизию передислоцировали в летние Уреченские лагеря, что располагались в пятнадцати километрах к востоку от города Слуцка Минской области.
6 июля 1941 года воинский эшелон с новобранцами прибыл на станцию Чаусы Могилёвской области. Среди них находился и Вилен Ливанов. Вновь прибывших направили в подразделения 55 стрелковой дивизии, основательно поредевшей во время ожесточённых боёв первых дней войны.
Вилена Ливанова и с ним два десятка новобранцев направили в роту связи 111 стрелкового полка.
За то время как дивизия находилась в резерве и доукомплектовывалась, в роте с молодым пополнением стали заниматься по методам прокладки телефонных линий на передовой.
Сообщали, как лучше и где проводить телефонные коммуникации. Учили, как обращаться с винтовкой.
Но это продолжалось недолго. Начиная с 13 июля, дивизия заняла оборону в районе юго-западнее г. Пропойск в составе 28-го стрелкового корпуса 4-й армии.
Связь между частями налажена отвратительно. В отличие от немцев, раций в дивизии ни одной не имелось, да и телефонного кабеля не хватало. Сообщения передавались письменно с помощью вестовых роты связи.
Красноармейцу вручали запечатанный пакет, он отправлялся к командиру указанного подразделения, командир вскрывал послание и расписывался на пакете.
После этого отдавал порожний пакет вестовому, а тот возвращался к себе в роту.
Вестовым выделили лошадей, но Вилен не умел ездить верхом, хотя неполный год проработал в колхозе. Ему приходилось передвигаться пешком, случалось под обстрелом противника, или массированной бомбёжкой.
К вечеру 14 июля немецкие войска форсировали Днепр и продвинулись на сто километров, они захватили город Мстиславль, став угрозой с севера городу Кричев Могилёвской области.
55 стрелковая дивизия получила новую задачу. Совершив ночью на 15 июля тридцатикилометровый марш, она сосредоточилась в лесах южнее города Черикова Могилёвской области.
Предполагалось, что дивизия примет участие в контрударе по группировке противника, что прорвалась на Горки – Мстиславль. Но контрудар не состоялся.
На рассвете получили новый приказ: немедленно вернуть 107 стрелковый полк с 1 дивизионом 84 артполка к городу Пропойску. Оказалось, что немецкие танки ворвались в Пропойск, потеснили 42 дивизию и продвигаются на город Чериков.
После потери Черикова дивизии поступил приказ занять оборону по берегу реки Сож от Гронова (в пяти километрах восточнее города Черикова) до Пропойска. 333 стрелковый полк временно передали в дивизию.
Вместе с ним и 161 запасным стрелковым полком в составе дивизии на тот период насчитывалось пять стрелковых полков.
17 июля фашисты захватили город Кричев, вышли к реке Сож от Пропойска до Мстиславля. На фронте протяжённостью около тридцати пяти километров оборонялась одна 55-я стрелковая дивизия и до полка 6 дивизии. Рубеж для таких сил явно велик.
Подразделения растянулись вдоль берега реденькой цепочкой.
До 23 июля части дивизии стойко держали оборону по восточному берегу реки Сож, чем обеспечивали переправу через водную преграду частям и подразделениям, выходящим из окружения.
Периодически проводились массовые вылазки, и контратаки на западный берег реки Сож.
После очередной операции, один из бойцов поделился переживаниями:
– Ты представляешь, я считал себя атеистом, а поднялся в атаку и молю Бога. Господи, не меня, Господи, не меня.
– Эка невидаль, – подхватил разговор другой красноармеец, – я тоже молил Бога, чтоб не убило и не ранило.
Во время очередного затишья Вилен разговорился с одним из немногих, оставшихся в живых старожилов полка, Николаем.
– Как началась война? – поинтересовался он.
– Неожиданно, – ответил Николай, – нас уверяли, что с Германией имеется соглашение, и они не нападут на страну. Да ещё за неделю до этого объявили по радио, а потом написали в газетах опровержение слухов, что немцы собираются напасть. Говорили, что никакой войны не будет, всё это провокация.
Из рассказа сослуживца Вилен узнал, что 22 июня в пятом часу утра их разбудил гул самолётов.
Николай и с ним около десяти человек собрались у штабной палатки. В небе над ними, в строгом строю, медленно летели на восток многие десятки немецких бомбардировщиков.
Силуэты самолётов выглядели белыми, как пушинки, явно в вышине солнце полностью освещало аэропланы.
О войне никто и не подумал. Решили, что это манёвры либо наши, либо немецкие, и спокойно пошли к реке принимать водные процедуры.
За время как они умывались, на палаточный городок налетели немецкие самолёты и разбомбили весь полк. Около 60% личного состава полка погибли или получили ранения во время этой первой бомбёжки.
Выходило, что от полка единственно название сохранилось.
Николай с товарищами вернулись к тому месту, где располагалась палатка, и увидели, что всё перемешалось с землёй и кровью.
Он нашёл сапоги, чьи-то галифе, а гимнастёрку – нет.
Умываться шли к реке в трусах и в майках, так Николай на себя накинул валявшийся рядом гражданский пиджак (с убитых снять гимнастёрку тогда не решился). Только тут они поняли – началась война.
Во время отступления, в один из дней шли мимо нашего разгромленного полевого аэродрома. Все самолёты стояли сожжённые, а по полю бродил одиноко потерянный лётчик.
Командир роты спрашивает у него:
– Чего вы не взлетели?
– А бензин отсутствовал, – отвечал лётчик, – да половина лётного состава находилась в отгуле, нам говорили, что войны не будет.
Потом начались ожесточённые бои, но под натиском превосходящих сил противника дивизии приходилось отступать.
– Так мы дошли до этих рубежей, – невесело проговорит Николай в конце рассказа.
На раннее утро 23 июля наметили наступление. Сосед слева – 219-я мотострелковая дивизия и 107-й стрелковый полк 55 стрелковой дивизии, пополненный подразделениями, что вышли из окружения, получили приказ захватить город Пропойск.
В полку сохранились шесть 76-миллиметровых, одна 45-миллиметровая пушка и три 120-миллиметровых миномёта.
Для усиления полка командование выделило один дивизион 84 артполка и три батареи из 132 дивизии – всего двадцать орудий. После тридцатиминутного огневого налёта стрелковые подразделения атаковали противника. Им удалось зацепиться за городскую окраину.
Гитлеровцы ввели в бой два десятка танков. Один танк, вооружённый огнемётом, поджёг пяток домов, занятых красноармейцами.
Восемь орудий, специально поставленные для стрельбы прямой наводкой, подбили пять немецких машин, а заодно и огнемётный танк.
Батареи с закрытых позиций тоже ударили по атакующему врагу. Потеряв ещё восемь машин, гитлеровцы вынужденно отошли и укрылись за постройками.
Вскоре на окраине города в очередной раз появились немецкие танки. После кратковременного боя советская пехота отошла на прежние позиции.
В последние дни июля установилось относительное затишье, обе стороны не проявляли активности.
Фронт обороны 55 стрелковой дивизии расширился на восток до посёлка Борисовичи Могилёвской области и достиг пятидесяти километров. Части, с боями вышли из окружения, и переместились в район Гомеля, где формировалось управление Центрального фронта.
55 стрелковая дивизия, как и все войска бывшей 4 армии, вошла в состав 13 армии этого фронта. Используя передышку, подразделения укрепляли оборонительные рубежи, вели инженерные работы.
Каждую ночь полки посылали разведывательные группы на шоссе, оно тянулось вдоль того берега в двух – четырёх километрах от реки.
Группы устраивали засады, брали пленных.
Утром 1 августа немецкие войска массово начали наступать из района городов Кричев – Мстиславль в направлении на город Рославль Смоленской области. В штаб дивизии стали поступать тревожные сведения. К вечеру следующего дня город Рославль оказался в руках врага.
Ежедневно немцы проводили разведку боем на правом фланге дивизии. Эти вылазки отражались с большим успехом, но вызывали тревогу. Чтобы усилить оборону, в эту местность передвинулся весь 111 стрелковый полк.
6 августа гитлеровцы после артиллерийской подготовки на правом фланге дивизии перешли в наступление и к часу дня захватили плацдарм на берегу реки Сож напротив посёлка Устье.
Бой шёл севернее деревни Веприн Чериковского района Могилёвской области. 111 стрелковый полк с частью сил разведбатальона дивизии, с большим трудом отражал атаки врага, огнём его поддерживал дивизион 84 артполка.
7 августа немцы, продолжили развивать наступление на юг от Кричева, и вышли на рубеж реки Лобжанка, захватили город Климовичи и распространялись вдоль железной дороги на город Костюковичи Могилёвской области, что позволяло обходить 55 стрелковую дивизию с востока.
В предрассветной темноте 7 августа 1941 года 111 стрелковый полк напал на противника и оттеснил его вглубь леса.
Контратака, что предприняла потом вражеская пехота, полностью захлебнулась. К вечеру два батальона немецкой пехоты ещё раз атаковали позиции полка. Фашистам удалось потеснить подразделения полка, выйти на опушку леса и восстановить прежнее положение.
С утра 8 августа подразделения 111 стрелкового полка готовились нанести ответный удар. Вскоре начался яростный артиллерийский обстрел вражеских позиций. Длился он тридцать минут. Под прикрытием этого огня пехота подползла к опушке и смелым броском ворвалась в лес.
Противник начал бить из миномётов, но мины разрывались уже позади наступающих рот. К вечеру советским бойцам удалось потеснить немцев вглубь леса.
Бои в этом районе продолжались с переменным успехом ещё двое суток.
Три квадратных километра, обильно политые кровью, переходили из одних рук в другие.
Полк получил две роты (сто пятьдесят человек) пополнения, но силы его таяли с каждым часом.
11 августа, на этот раз после мощной авиационной и артиллерийской подготовки, немцы начали наступление против 111 стрелкового полка.
Обескровленный полк, в составе всего двухсот пятидесяти человек, принялся отходить на юг. Силы были неравны. Ситуация усугублялась тем, что кончились боеприпасы.
Когда бо́льшую часть деревни Веприн захватил враг, и стало трудно разобраться, где свои, а где фашисты, артиллеристы получили приказ из штаба полка отойти на новый рубеж обороны.
Начиная с этого злополучного дня, дивизия всю вторую половину августа совершала отход на юг через посёлок Красная Гора, города Новозыбков и Злынка Брянской области.
30 августа 55-я стрелковая дивизия заняла оборонительный рубеж на восточном берегу реки Снов от города Щорс на юг до села Новые Млыны Щорского района Черниговской области УССР.
Разведывательные подразделения противника подошли к реке одновременно с частями дивизии и попытались с ходу переправиться через неё в нескольких местах. Но эти попытки потерпели неудачу.
Враг затаился, он ожидал подхода главных сил. Связь со старшими начальниками отсутствовала.
На следующее утро командование приняло решение перейти в наступление в направлении деревни Грязна Щорского района – город Городня, вдоль железной дороги Щорс – Гомель. 1 сентября части дивизии предприняли наступление.
Сначала оно развивалось хорошо, передовые части противника удалось отбросить от реки Снов на три километра, за деревню Грязна (восемь километров юго-западнее города Щорс).
Противник произвёл незаметное сосредоточение в лесу, вплотную подходящем к огородам деревни Грязна, и перешёл в контрнаступление.
Помимо этого, выяснилось, что на чердаках домов спрятались гитлеровцы, не успевшие выскользнуть из окружённой деревни.
При наступлении немцев они тоже открыли огонь. Бой разгорелся уже в самой деревне Грязна и стремительно перемещался к восточной окраине.
Подразделения дивизии начали отходить на прежние рубежи за реку Снов.
6 сентября 55-я стрелковая дивизия в составе 66 стрелкового корпуса 21 армии вошла в состав Юго-Западного фронта и держала оборону в районе города Щорс Черниговской области.
К исходу 7 сентября красноармейцы 21 армии отошли за реку Десна на фронте: город Бахмач – посёлок Макошино Менского района, село Салтыкова Девица Куликовского района Черниговской области.
8 и 9 сентября подразделения 21 армии пытались сбить противника с плацдарма у посёлка Макошино, занятого авангардами мотодивизии «Райх», но в это время состоялся прорыв 3 и 4 танковых дивизий немцев на фронте Конотоп – Бахмач и обнаружилась новая угроза правому флангу армии в районе Бахмач.
Распоряжением командарма 21 армии на этот участок фронта перебросили кавалерийскую группу (остатки трёх кавалерийских дивизий), 214 воздушно-десантную бригаду, а затем и 55 стрелковую дивизию в район села Григоровка Бахмачского района Черниговской области (15 км южнее города Бахмач).
К 10 сентября подразделения 21 армии занимали фронт обороны город Бахмач – город Борзна – село Вертиевка Нежинского района Черниговской области, перед ними расположились превосходящие силы противника.
21 армия (67, 28 и 66 стрелковые корпуса) в течение 11—13 сентября 1941 года пыталась обороной и контратаками задержаться на реке Десна. Но моторизованные корпуса и танковые соединения немцев не давали возможности остановиться для закрепления.
Армия оказалась в этот момент между двух огней наступающих частей врага.
Поэтому к концу 12 сентября войска армии отходили с боями на линию село Григоровка Нежинского района – Хвастовцы – город Нежин Черниговской области.
К концу 12 сентября враг произвёл охват флангов Юго-Западного фронта, образовалась настоящая угроза обхода с тыла основных сил фронта.
К ночи с 13 на 14 сентября оборону 21 армии гитлеровцы взломали окончательно, и советские войска фактически приступили к подвижной обороне.
С 16 по 20 сентября произошло расчленение войск Юго-Западного фронта на отдельные воинские образования (очаги) ввиду вклинения на различных направлениях сильных группировок противника.
17 сентября командующий Юго-Западным фронтом отдал приказ армиям на выход из окружения. 21 армия получила распоряжение наносить удар в общем направлении на город Ромны Сумской области навстречу удару 2 кавалерийского корпуса Брянского фронта, он предпринимался с востока.
55 стрелковая дивизия до 23 сентября 1941 года вела борьбу в составе так называемой Пирятинской группы из остатков 5 и 21 армий Юго-Западного фронта в районе 20—30 километров к юго-востоку и востоку от города Пирятин Полтавской области, в непосредственной близости от кольца окружения.
Спустя определённое время из штаба 55 стрелковой дивизии, поступило распоряжение попытаться выйти из создавшегося положения разрозненными группами.
Выполняя приказ, Вилен и ещё пятнадцать бойцов роты связи стали выбираться из окружения.
Приходилось соблюдать чрезвычайную осторожность.
Вокруг, на всех дорогах и тропинках, уже ходили немцы, и приспешники гитлеровцев – полицаи, они проводили прочёсывание леса. Красноармейцы видели, как по дорогам мимо них гонят на запад тысячные колонны пленных.
Бойцов потрясло всё случившееся. Не передать словами, что творилось в душах красноармейцев в эти минуты.
Людьми овладело отчаяние, да ещё лютая ненависть и злоба к оккупантам.
Продовольствие отсутствовало, патроны на пересчёт, но они продолжали целеустремлённо пробираться к своим.
В один из дней подойдя к посёлку, они встретили двух женщин. Женщины сказали, что на противоположном краю посёлка стоят немцы, вынесли рубашку, брюки, другие вещи гражданской одежды, дали по куску хлеба и завели на колхозную молочную ферму.
Прибежал заведующий фермой, и стал их прогонять:
– Сталинские выродки, – кричал он красноармейцам, – комсомольцы поганые! Житья от вас не было! Не дам молока, лучше немцам всё отдам!
– За что ты на нас, красноармейцев, так орёшь? – спросил один из бойцов, – Мы с тобой советские люди! Как ни совестно?! Опомнись!
Мужик схватил косу и кинулся на красноармейца. Но дочь набросилась на него, повалила на землю, и держала, изрыгающего брань и проклятия, сбесившегося от ненависти, родного папашу.
Бойцам пришлось спешно уходить из негостеприимной фермы.
На другой день, с наступлением вечера, они вышли на окраину хутора и притаились возле хаты, для изучения обстановки. Вдруг из дома вышел немецкий солдат, он тащил за руку упирающуюся молодую симпатичную женщину. За ними бежал ребёнок лет пяти, весь заплаканный, он кричал навзрыд:
– Дядя, дядя, не трогай мамку!
Мальчик попытался схватить за ноги солдата, но тот оттолкнул ребёнка и продолжил тащить женщину по направлению к сараю. Мальчик опять бросился защищать мать.
Тогда гитлеровец схватил ребёнка за ноги и со всей силы ударил головой о стену сарая, после чего отбросил безжизненное тело в сторону.
Один из красноармейцев не выдержал такого зверства и выстрелил из винтовки, убил садиста последней пулей.
После этого бойцы отошли от хутора.
Три недели Вилен с красноармейцами шли по захваченной врагом земле, они прятались от противника и питались чем придётся. В середине октября они вышли в расположение советских частей.