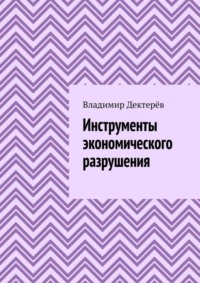Buch lesen: "Инструменты экономического разрушения"
© Владимир Дектерёв, 2021
ISBN 978-5-0055-8086-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть первая. Налоговая удавка
Убийца экономики
Вы никогда не задумывались над тем, почему в советские времена, говоря об экономике, никогда не говорили о налогах? И почему с начала проведения «рыночных реформ» эти две темы стали неразлучными? Дело в том, что налоги в России – это больше, чем плата за содержание государства. Это важнейший инструмент разрушения экономики страны Налоговая перезагрузка.
Многие чувствуют и ощущают их разрушительную мощь, но понять действие этого механизма не могут. Очень уж изощрённая мифология опутывает всю налоговую сферу плотной дымовой завесой. Надо проникнуть сквозь эту пелену лжи, чтобы понять сутьтой «прекрасной налоговой системы», которую, по словам бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Мишеля Камдессю, специально для России разработали его специалисты.
Дело в том, что налоговая нагрузка – это важнейший компонент обеспечения конкурентоспособности продукции. Чем больше налогов закладывается в цену товара, тем ниже его конкурентоспособность, возможности сбыта, а значит – и производства. Именно запредельно высокая налоговая нагрузка в начале «реформ» явилась важнейшей причиной краха экономики России.
Почти все производственники тогда жаловались на непомерный налоговый гнёт, на то, что государство отнимает у кого 87%, у кого 96% заработанного. Например, в школе, где учились мои дети, учителя решили легализовать занятия репетиторством. Однако, когда обнаружили, что из каждых 10 рублей, уплаченных родителями, 9 уходит в налоги, это их желание испарилось. А вот у производственных предприятий, в отличие от репетиторов, возможности спрятаться от налоговых органов не было. Оставалось только жаловаться.
Однако руководители Минфина оперировали совсем другими цифрами. По их понятиям, налоги у нас были лишь чуть завышены: 32% от ВВП против 27—28% в развитых странах. Кому же верить? Им или производственникам? Оказывается, ни тем, ни другим. Весь вопрос в том, что и как считать.
Что такое ВВП? Валовой внутренний продукт включает в себя стоимость товаров, работ и услуг, произведённых во всех секторах экономики. Но одни сектора экономики платят налоги, а другие на них живут. Если сложить стоимость услуг учителей, врачей, военнослужащих, чиновников и т. д. со стоимостью произведенных товаров и услуг промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта, связи, строительства, банковской сферы и т.д., да ещё сделать 40-процентную «дооценку» на теневой сектор, а затем сумму поступивших в казну налогов разделить на всё это, получится указанная Минфином цифра.
Это если не включать в неё платежи в пенсионный и другие государственные социальные фонды. С ними получается 39%. Если же добавить то, что поступало во внебюджетные фонды министерств и ведомств, их подразделений на местах, региональных и местных администраций и их подразделений, получится больше половины ВВП.
Но о чём эта цифра говорит? А ровным счётом ни о чём. Ведь соотношение тех, кто платит налоги, и тех, кто на них живёт, в ней не отражено. То есть, она вообще никак не отражает налоговую нагрузку на предприятия. Значит, правы производственники? Ничуть.
Если у вас есть в семье школьник, которому наши экономисты ещё не успели запудрить мозги, предложите ему решить простую задачку. Предприятие произвело и отправило потребителю продукцию, за которую тот заплатил 200 рублей. Из них 100 рублей предприятие перечислило своим поставщикам за потреблённые производственные ресурсы и 90 рублей отдало государству в виде налогов и других обязательных платежей за право производить и продавать эту продукцию. Вопрос: сколько заработало предприятие? Разберёмся в арифметике.
Ваш школьник, произведя несложные арифметические подсчеты, получит ответ: предприятие заработало 10 рублей. А не 100, как почему-то считали и продолжают считать наши директора. Ведь так оно, на самом деле, и есть! То, что осталось у предприятия и его работников после расчётов с поставщиками и с государством, и есть его заработок.
Но если предприятие заработало 10 рублей, то сколько же процентов к заработанному составили налоги? Школьник, подсчитав, скажет: 900%, а не 87—96%, как получалось у директоров. И будет абсолютно прав. Именно такими цифрами измерялось налоговое бремя, которое несли отечественные товаропроизводители в 1990-е годы.
С первого взгляда это не укладывается в голове. Однако давайте разбираться. Принято считать, что налогами обкладывается финансовый результат работы предприятия. А он состоит из заработной платы персонала и прибыли владельцев. Заработная плата обкладывается налогами на доходы физических лиц. Прибыль обкладывается налогами как с юридических, так и физических лиц (предприятий и их владельцев, акционеров). По такому принципу устроены многие налоговые системы в мире. Но не у нас.
Дело в том, что налоговая система, которую для нас придумали и внедрили «специалисты» из МВФ, основана не на изъятии государством у производителя какой-то, пусть даже львиной доли, той прибыли, которую он получил. Ноу-хау этой системы состоит в «накручивании» налогов и других обязательных платежей на себестоимость продукции.
Кроме зарплаты и прибыли налогами и другими обязательными платежами (тьма всевозможных пошлин, акцизов, взносов, сборов, платежей за выдачу лицензий, сертификатов, разрешений, согласований, справок и других поборов) у нас облагаются имущество предприятия, потребление им ресурсов, его деятельность, его бездеятельность и даже его убытки. И всю эту массу платежей в соответствии с инструкциями Минфина, которые затем были обобщены в статье 264 Налогового кодекса РФ, бухгалтеры должны относить на счёт «прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией», то есть на себестоимость продукции.
Затем уже на всё это вместе взятое последовательно накручивается ещё несколько налогов – причём каждый последующий налог накручивается на сумму, включающую все предыдущие налоги. Замыкали эту цепь самые «эффективные» налоги – на добавленную стоимость (НДС) и с продаж. Особую эффективность им придавали инструкции по их применению, которые заставляли и эти налоги включать в себестоимость, а затем ещё раз их начислять на полученную сумму.
Например, практически все торговые предприятия в Москве, за исключением дорогих магазинов, не пользовались резко вздорожавшими услугами инкассации, а рассчитывались с оптовиками через Сбербанк, а то и просто наличными. Инструкция по применению налога с продаж эти расчёты приравнивала к розничным продажам. В результате размер налога с продаж возрастал с 4% до 8,16%.
То есть, налоги и другие обязательные платежи у нас многократно «накручиваются» не только на себестоимость, но и друг на друга. Получается нечто вроде матрёшки, где стоимость продукции представляет собой самую маленькую фигурку. В результате таких операций цена отечественной продукции возрастает в несколько раз, по сравнению с её фактической стоимостью.
К налогам и другим обязательным платежам приплюсовывалось ещё и так называемое перекрёстное субсидирование тарифов на продукцию естественных монополий, потребляемую предприятиями. Так, для промышленности в 1996 году коммунальные платежи были установлены на уровне федерального правительства в шесть раз выше, чем для жилищно-коммунального хозяйства.
Региональные правительства накручивали ещё. Е. Наздратенко в Приморье увеличил их по электроэнергии в 12,2 раза, а Ю. Лужков в Москве отпускал воду предприятиям в 12,8 раза дороже. В целом разница тарифов, например, на электроэнергию по регионам и потребителям достигала 20-кратной величины. По сути власти превратили тарифы естественных монополий в колоссальный дополнительный налог на предприятия, и без того задушенные сотнями налогов и других обязательных платежей.
При такой налоговой системе неважно, какова рентабельность производства. Все эти громадные суммы предприятие обязано включать в цену своей продукции. Даже если оно не получает никакой фактической прибыли, даже если оно убыточно, даже если оно неспособно выплатить зарплату своим работникам, налоги с него сдирают. Искусственная неконкурентоспособность.
Не заработанное отнимает наше государство. Заработанное – это то, что досталось предприятию, его работникам. Все эти налоги, акцизы, пошлины, взносы, сборы, лицензии, другие поборы и перекрёстное субсидирование – это не заработок предприятия. Это то, что государство искусственно закачивает в цену отечественных товаров и услуг.
Вы спросите, в чём экономический смысл такой системы? Если исходить из принципов экономической целесообразности, то получается абсолютная бессмыслица. Но, представьте, что происходит, когда на свободном рынке сходятся два равнозначных для потребителя товара, на стоимость одного из которых «накручено» 50% или 100% налогов, а на стоимость другого 900%? Какой из них будет конкурентоспособнее? Вопрос риторический. Именно эта неконкурентоспособность неуклонно и последовательно превратила некогда мощную индустриальную державу в «банановую республику».
Тем, кто после разрушения СССР захватил государственную власть в России, удалось внедрить в наше сознание миф, что катастрофическое падение производства в стране якобы связано с введением рыночных отношений и открытием границ для высококонкурентной зарубежной продукции. В действительности же неконкурентоспособность отечественных товаров и услуг создаётся искусственно – путём закачивания в их цену непомерных налогов и поборов, многократно превышающих их фактическую стоимость.
Сбыть свою продукцию по приемлемой цене в условиях такой налоговой системы может лишь монополист или обладатель высокопроизводительного оборудования. Для всех остальных производить что-либо становится разорительным занятием. Предприятия останавливаются, экономика страны рушится.
Именно этого и добивались спецслужбы США, негласно контролирующие МВФ. Так что за внешне экономической бессмыслицей стоит жёсткая логика устранения основного конкурента США руками оккупационного режима.
Налоги и инфляция
Вас никогда не смущало то обстоятельство, что с самого начала «рыночных реформ» Россию почему-то начал преследовать рок инфляции? Именно рок. Какая бы финансовая и экономическая политика ни проводилась правительством, инфляционные процессы продолжали действовать с фатальной неотвратимостью. Инфляционный рок.
Напомню, что в 1998 году пришлось прибегнуть даже к деноминации рубля. С купюр образца 1997 года убрали по три ноля. А всего рубль подешевел, если сравнивать его покупательную способность с батоном хлеба, в 200 тысяч раз (с 25 копеек до 50 тысяч обесцененных советских рублей), а с билетом в московское метро – в 1,2 миллиона раз (с 5 копеек до 60 тысяч обесцененных советских рублей).
Причина заключается в том, что инфляция в России, как и неконкурентоспособность отечественной продукции, искусственно формируется той самой налоговой системой, которую специально для нас разработали специалисты МВФ. Механизм обеспечения роста цен, изобретённый заокеанскими спецами, прост. Они просчитали, что, если часть налогов и других обязательных платежей, «накручиваемых» на стоимость продукции, «привязать» к заработной плате, то каждый рубль её увеличения будет оборачиваться «накручиванием» на конечную цену продукции нескольких дополнительных рублей.
Впервые у нас этот механизм был внедрён ещё в «перестройку». Кто-то, может быть, помнит введённый по предложению академика Абалкина 200-процентный налог на превышение фонда оплаты труда. Если предприятие заплатило рабочему «лишний» рубль, оно обязано было заплатить за это государству два рубля налога. Так что на цену продукции «накручивалось» уже три рубля.
Впоследствии эту «слишком грубую» схему «накручивания» налогов на заработную плату заменили более «приемлемой» для восприятия. Но суть её не изменилась. Посмотрите, что получалось, когда работник предприятия добивался увеличения заработной платы на 1 рубль.
Чтобы выплатить работнику этот рубль, предприятие должно было начислить ему не менее 1,15 рубля (подоходный налог – 12%, взнос в пенсионный фонд – 1%). На эти 1,15 рубля, предприятие должно было начислить и перевести в фонды социального страхования и пенсионный не менее 0,58 рубля (50%). В сумме получалось 1,73 рубля. Простой расчёт.
Далее, по существовавшему порядку налогообложения «дополнительная» зарплата вводилась в прибыль и облагалась налогом на неё (32%). То есть рубль, полученный работником, обходился предприятию уже в 2,28 рубля.
Затем на эти 2,28 рубля последовательно накручивались налог на пользователей автодорог (2,5%), на полученную сумму – сбор на нужды образовательных учреждений (1%), на всё это – НДС (28%), что в итоге давало 3,02 рубля. Впоследствии на эту сумму стал накручиваться налог с продаж (в пределах 5%), размер которого в разных регионах был своим.
Иными словами, каждый рубль увеличения оплаты труда приводил к росту оптовых цен предприятий на три с лишним рубля. И хотя внешне вроде бы накручиваемые на зарплату налоги не выглядели так дико, как 200-процентный абалкинский налог, благодаря изобретённой специалистами МВФ «налоговой матрёшке», результат получался не менее внушительным.
Поскольку при формируемом таким вот способом росте цен не повышать зарплату было невозможно, то автоматически начинал действовать надёжный механизм самораскрутки маховика гиперинфляции. Чем выше поднималась заработная плата, тем быстрее росли цены. Только в 1992 году, по данным Госкомстата, рост цен составил 2600%. При этом темп роста зарплаты отстал от темпа роста цен в 2,9 раза! Социальная дубинка.
Но этим заокеанские спецы не ограничились. К заработной плате они «привязали» платежи в пенсионный и другие социальные фонды. Поэтому по мере снижения её реального размера автоматически сокращался и реальный размер пенсий и пособий. То есть этот механизм, ещё и автоматически снижал реальные доходы неработающего населения. По сути, внедрённая из-за океана налоговая система выполняла (и продолжает выполнять) ещё и функцию генератора нищеты для населения России.
Снижение реальных доходов населения с помощью внедрённой заокеанскими спецами налоговой системы в начале «реформ» приобрело характер геноцида. Однако за этим садизмом стоял циничный расчёт. Дело в том, что снижение доходов приводит к сокращению спроса на товары и услуги, то есть к автоматическому сжатию внутреннего потребительского рынка. Товаропроизводителям остаётся только пытаться вывезти свою продукцию на внешние рынки. При этом внутренний спрос падает не только на отечественные, но и на импортные товары, а значит, снижается их ввоз в страну.
Выручка от экспорта остаётся на Западе не только потому, что наши экспортёры воруют. Это фактор существенный, но не главный. Главная причина – невозможность её приложения в России. На вырученные деньги нельзя купить и ввезти в страну импортные товары, так как внутренний спрос запредельно сжат. Их нельзя инвестировать в производство, ориентированное на внутренний спрос. Просто потому, что действующая налоговая система обеспечивает неконкурентоспособность практически любого производства, кроме сырьевого, а значит, и бессмысленность капиталовложений в экономику России.
Вот и получается, что эта налоговая система является наиболее эффективным механизмом, обеспечивающим прямой грабёж России западными государствами. С её помощью создано положение, при котором наша богатая страна с нищим народом, будучи одним из крупнейших экспортёров сырья, не стала таким же крупным импортёром высокотехнологичной продукции, превратившись в одного из крупнейших экспортёров капитала. Вслед за нашими природными ресурсами на Запад ежегодно «утекают» и сотни миллиардов долларов, вырученных от их продажи.
Впоследствии, когда по политическим причинам уровень налогообложения был существенно снижен, снизилась и инфляция. Но не только она. Благодаря тому, что на зарплату стало накручиваться меньше налогов темп её отставания от инфляции также резко снизился. Рост зарплаты стал отставать от инфляции уже не в разы, а на проценты.
Затем в результате быстрого роста объёмов производства доходы населения, в том числе общий фонд заработной платы в стране стали также быстро расти. Теперь уже инфляция не поспевала за ними. Начался период восстановления не только экономики, но и жизненного уровня населения России.