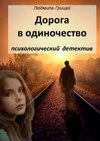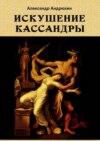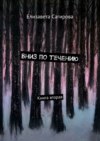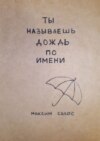Buch lesen: «Сказочки деревни Дедово»
Как дни тревожит сон вчерашний,
Не память, – зов, хмельней вина, —
Зовет в поля…
В. Я. Брюсов. Не память…
Дизайнер обложки Клавдия Шильденко
© Витаутас Зубрис, 2025
© Клавдия Шильденко, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0065-7305-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
⠀
⠀
⠀
Вы давно покинули деревню и устроились жить в городе, в этом «каменном мешке»? И вы не можете выскочить из его бешенного ритма, чтобы вновь вернуться, хотя бы на краткое время, в родную деревню с её добродушными и бескорыстными жителями, часто попадающими то в смешные, то в грустные ситуации, а то и становящимися просто героями деревенских баек?
А, может быть, вы не родились в деревне и никогда не были в ней, так как не смогли вырваться из мёртвой хватки города, хотя и очень хотели? И вы не представляете, что существует и другой мир, совершенно отличающийся от привычной городской суеты…
Автор будет рад, если его весёлые сказочки и другие рассказы помогут читателям поближе познакомиться с бытовой и политической жизнью деревни в разные годы истории страны.
Место, главные действующие лица, время
Где-то в глубокой Сибири, за лесами, за горами, да за Указами и Кодексами, жила-была вдали от главных, средних и малых дорог, «электрификации всей страны», при разных режимах от Союза республик до единой России, небольшая, ничем не приметная деревня Дедово.
Сколько таких деревень в Сибири! Маленькие пылинки на этой Земле, – а всех не смахнёшь, как ни старайся… Потому что их дом-крепость – это не избы, заборами огороженные, а сама бескрайняя Природа. От этого и корни крепки, и люди душою чище, поступками проще и благороднее.
Говорят, спивается деревня. Ну, пьют. Частенько. Раньше пили по праздникам, теперь – когда есть возможность. Праздники остались в больших городах. Что деревне праздничные Дни! Нет, деревня не против этих Дней. Но не видит смысла ходить, кричать, махать… У неё круглый год только один день – День Выживания. А как выжить, Бог его знает…
Конечно, у деревни лицо не в кремах, одежда – в лучшем случае китайская, а вот ума-разума набраться у деревенских не грех и чинам разных мастей по разным направлениям. А то, что ни день – то у них реформа. Чиновники так употели реформироваться, что работать некогда. Конторы только успевают менять вывески, печати, сливаться, разъединяться, ликвидироваться – и вновь возрождаться. А тут ещё народ под ногами путается… «Чего вам надо? Что-то да сделать? Идите, идите отсюда, не видите, я занят, пишу отчёт о том, что я сделал по тому, что вы хотите, чтобы я вам сделал!».
Да Бог с ними, чинами-то! Им в наказание – холодный мраморный дом да скользкий паркет на службе, нашим же героям…
А вот и они сами – главные действующие лица:
Дед Тимофей, на одну ногу хромой: на вопросы о его хромоте, он всегда рассказывал, что её, окаянную, приобрел во время службы в армии. Правда, где-то медицинская справка потерялась.
А злые бабьи языки несут, что дед от того и хромает, что в тайге в свой же капкан попал.
Когда в Дедово из района или соседних деревень приезжают именитые гости, дед Тимофей всегда им скромно, но с хитринкой в глазах, представляется: фельдшер философии. А чего? Если в городе доктора, то в деревне, конечно, фельдшера. А сколько после долгих философских размышлений он сделал разных открытий. Сколько их у него! Мыслит не хуже самих районных академиков… И любимое его слово – «сентенсия» (использует редко, только тогда, когда хочет высказать глубокую философскую мысль).
Иван, которого в деревне кликают Механиком: башковитый мужик этот Иван! За что ни возьмётся, всё у него спорится. После его ремонта мужики всегда спорили на бутылку самогонки: сразу выкинуть вещь на свалку или чуть погодя, – а вдруг заработает? Всё-таки сельскохозяйственный институт окончил…
Два друга, Гриша и Миша: водители водовозки, экипаж машины «потевой»: больше потеют под ней, чем ездят. Две половинки одного целого: по уму – у одного половина, и у другого половина, а если эти половинки соединить – то получится ровно столько, сколько и у Механика; даже живут в двух половинках одного двухквартирного дома. А чего ещё о них, молодых, умом неоперёнными, но уже жёнами обзаведёнными, рассказывать?
Вася, водитель вахтовки с лесопилки: хороший водитель, у самого бригадира лесопилки вторую жену увёл, а тот жутко рассердился, так как к нему на свободное место вернулась первая. Теперь больше трёх рюмок самогонки с Васей не выпивает. Из принципа.
Екатерина Гавриловна, или просто Гавриловна, сторожиха лесопилки: неугомонная женщина! Где, что – и она там! Речь ведёт – заслушаешься: если ей самой что-то надо, то и мёртвого уговорит; а если пойдёшь поперёк её речи – врежет со всей прямотой, не подбирая слов. С ней шутить опасно, но можно, если заранее, хотя бы на пять ходов вперёд, иметь подготовленные ответы.
Бабка Дуся, бывшая начальница бывшего сельпо: как привыкла с советских ещё времён к потаённой торговле, так и сейчас торгует. Только если раньше дефицитными вещами, то теперь самогонкой. Грамоты ей не занимать: две теории знает (и всю жизнь с успехом использует) – теорию относительности (то есть, кому, сколько и когда отнести надо, чтобы ничего не было, что должно быть по закону) и теорию вероятности (то есть, какова вероятность того, что может случиться то, что должно быть по закону, или какова вероятность того, что это не случиться никогда, если регулярно применять теорию относительности). По какой теории высчитывала, неизвестно, но вступила в «Единую Россию», стала секретарём партийной ячейки и старостой деревни.
А также и другие действующие лица, которые будут появляться то в одной, то в другой истории. И всех их – и главных, и вторых жителей этой деревни, – не любить нельзя. Они заслуживают любовь и уважение уже тем, что они есть. Какие уж ни есть… Главное – что пока ещё выживающие.
Время, когда проходили все эти события: то ли давно это было, то ли недавно… А что время? Ему неважно, когда и что происходит. Оно идёт вперёд, не оглядываясь ни по сторонам, ни назад. Это только мы, человеки, цепляемся за него, стараясь то ускорить его ход, то притормозить, не замечая, что при этом мы часто, как и наши герои, попадаем то в грустные, то в весёлые ситуации.
Послушаем?
Сказочки
Сказочка о медведе и охотниках
Как-то весной, под вечер, к Механику забежал Вася, водитель вахтовки, и, волнуясь, рассказал, что километрах в тридцати от деревни, почти рядом с дорогой, нашёл берлогу со спящим медведем.
– Надобно сохотить его! – горячо призывал Вася.
Механик согласился и отправил Васю собрать деда Тимофея, да Гришу с Мишей – «охотничью артель» (правда, нигде не зарегистрированную) и по пути заглянуть к бабке Дусе, за самогонкой, ведь без неё никакого плана захвата не сплести.
Собрались, и до самого утра судили да рядили, как этого медведя взять. После каждой бутылки новый план рождался. У маршала Жукова за всю войну столько не набралось! Видать, самогонку не пил. А как же без неё-то?!
К раннему утру созрел план, и созрели охотники для великой битвы.
– Я пойду с рогатиной шевелить медведя, – распорядился Механик. – Дед Тимофей с карабином встанет напротив берлоги, Гришка с Мишкой – по бокам с дробовиками. На охоте, чур, не пить: нужен трёзвый ум да крепкая рука! А сейчас пока ещё можно…
Хотел схватить стакан с недопитой самогонкой, да рука, видать, уже не хотела пить, – хвать за стакан, а он, недопитый, выстрелил из пальцев и скользнул по столу, аккурат в сторону деда Тимофея. Стол-то кончился, стакан опрокинулся – и вылилась вся жидкость прямо на ширинку брюк.
– Изверг! – заорал, что есть мочи, дед Тимофей. – Добро народное испортил!
Правда, не объяснил, какое именно добро; поди, догадайся, – то ли самогонка, то ли ширинка… Тут поднялся Механик и командирским голосом скомандовал:
– Все цыц… По коням!
По коням так по коням. Загрузились в вахтовку, покатили к медведю.
Приехали быстро. А чего тянуть, ежели кровь в жилах бурлит? Машину развернули носом к деревне, разгрузились, поволоклись к берлоге, таща за собой ружья, заготовленную рогатину да деда Тимофея. Васю оставили в тылу для вывозки трофея.
Недалёко волоклись, наверное, минут пять. И вот он, заветный бугорок со струйкой пара из-под снега. Дышит медведь, – значит, живой!
– Проведём ре… ре… когти… сенировку1, – не в тему скомандовал Механик и глубоко задумался: про когти, вроде бы, говорили, про сено ничего не было; да чёрт с ним, с этим сеном! – Становись-сь!
После грозной команды, да ещё с непонятным словом, все взбодрились и заняли свои места согласно утверждённого плана.
Механик схватил рогатину, да задом наперёд, что подцепил рогами стоявшего позади деда Тимофея. Поняв, что совершил ошибку, Механик развернулся вместе с дедом Тимофеем, и тот оказался задом к берлоге. У того от такого неожиданного манёвра вышла последняя дурь, – как заорёт:
– Спасите! – И как-то странно обмяк; видать, смирился со своей участью.
А Механик, то ли от того, что не понял, куда исчез дед Тимофей, то ли от злости, что сорвалась атака, бросил рогатину вместе с дедом Тимофеем. Тот покорчился, покорчился на земле, и, видать, она придала ему силы: пришёл в себя, и уже мягче, почти безобидно так, прошептал Механику:
– Придурок… компас купи…
Когда внутри всё улеглось, а снаружи неодобрительные слова закончились, все стали по местам. Механик снова схватил рогатину, набрал в грудь воздуха и, набычившись, решительно, как баба Яга с ухватом на печку, пошёл на берлогу. Гришка с Мишкой вначале вытянулись, как почётный караул у Мавзолея, но с каждым шагом Механика к берлоге стали приседать так подозрительно, как будто прятались за дробовиками. Дед Тимофей, набравшись храбрости, решительно, причём без компаса, не выпуская из поля зрения берлогу, тронулся с установленного места на десять шагов… назад, для занятия более выгодной для него позиции за широченной сосной.
Наконец Механик дошагал до берлоги, всунул рогатину в берлогу и начал будить медведя. Тот, видать, не привык к такому обращению: выплюнул из пасти лапу, раскрыл глаза – и начал урчать. У Гришки с Мишкой дробовики стали длиннее, чем они сами, а у деда Тимофея карабин заскакал в руках, как у солдата президентского полка на параде.
Вдруг Механик отскочил от берлоги, да как закричал: «Дед, стреляй!» – и пластом рухнул на белую землю, да пополз в сторону дороги.
Высунулась голова медведя – и прогремел выстрел. Один.
В это время «тыловик» Вася, услышав выстрел, подождал второй, и, не услышав его, решил, что медведя убили одним выстрелом и беззаботно зашагал в сторону охотников. Но вдруг он видит – со стороны берлоги что есть мочи и с криками, причём совсем не радостными, несутся Гришка и Мишка. Правильно оценив ситуацию, Вася решительно развернулся и побежал в сторону машины. Добежал, заскочил в кабину, стал заводить машину. А она, зараза, не заводится! Всю жизнь с полпинка, как баба с полуслова, начинала тарахтеть, а тут не заводится!
Пока водитель «пытал» машину, Гришка с Мишкой заскочили в будку вахтовки.
Тут на горизонте появилась фигура деда Тимофея, видать от земли оторваться хотел, да взлететь, уж так бежал, подпрыгивая, растягивая руками укороченную шинель, как крылья дельтаплана. Но подняться не мог, видать у него пропеллер не закрутился. Замёрз.
Вдруг дед Тимофей услышал, как за его спиной задрожала земля, послышалось частое, с рычанием, дыхание (правда, дыхание было с перегаром). Но деду Тимофею уже было всё равно. «Медведь!.. Конец…», – промелькнула мысль, и он представил себя в раю… Но в это время кто-то сшиб его на землю. А ведь до машины было рукой подать! Дед поднял голову, чтобы успеть попрощаться с товарищами, которых он прикрыл от медведя своим тощим телом, открыл последний раз глаза – и увидел толстый зад убегающего Механика.
И так хорошо ему стало на душе, что он был готов молиться на этот зад всю оставшуюся сознательную свою жизнь. Но с полдороги на тот блаженный свет, на грешную землю его вернул шум двигателя машины, медленно начавшей своё движение в сторону спасительной деревни.
Без всякого дельтаплана и пропеллера дед Тимофей взлетел над землёй. Достав из резерва последние мощности для своих мощей, с диким криком «Брошу пить!» рванул вслед за убегающим от его глаз «маяком» и набирающей скорость машиной.
Механик, услышав позади себя топот, да ещё и крик, непонятный его душе, среагировал мгновенно: «Медведь!». Схватился за поручни будки вахтовки, заскочил на ступеньки, но сил сделать ещё пару шагов в спасительную будку от страха не нашлось. Через открытую дверь он увидел впереди четыре глаза и четыре протянутых к нему руки. «Это черти», – подумал Механик и, в отличие от деда Тимофея, представил себя в аду.
А в это время дед Тимофей, увидев, что спасение близко, но почему-то уезжает от него, вспомнив, что за ним только медведь, и отступать некуда, с душераздирающим воплем хотел ухватиться за поручни, да промахнулся, но успел железной хваткой схватить Механика за ногу, и для надёжности вцепиться в неё своими зубами. Тот, не разобравшись что к чему, подумал, что за ногу его схватил медведь, на последнем выдохе заорал: «Не я стрелял!.. не я стрелял!..» – и свободной ногой начал отбиваться от медведя, то есть от деда Тимофея. Но тот непоколебимо переносил все тяготы для спасения своего грешного тела.
Так они и ехали метров сто, пока Вася, не услышав громкие стуки в будке, не остановился. Дед Тимофей разжал свои челюсти да костлявые клешни, отчего Механик ввалился в будку и, упав на пол, от радости заплакал.
Исшорканного об дорогу деда Тимофея с почётом, на руках, занесли в будку, усадили рядом с непросохшим от слёз Механиком.
– Не плачь, чёрт с ним, этим медведём, – успокоил его дед Тимофей, шаря плутовскими глазками по будке. «Вот она, проклятая, губительница моей души!» – воскликнул он, доставая из замасленного тряпья бутылку самогонки и, повернувшись к Механику, с живостью в глазах спросил: – Выпьем или выльем?
Механик утёр последнюю слезу, взглянул на деда Тимофея и ласково так, с укором, спросил:
– Опять, ты, старая калоша, бутылки от своих прячешь? Ладно, наливай!
Так они весело и добрались до своей деревни.
А медведь? А что медведь? После того, как пуля деда Тимофея пролетела мимо, а молодёжь – Гришка с Мишкой, – забыв о ружьях и установках Механика, рванула в спасительную даль, Медведь вылез из берлоги и с недовольством проворчал: «Ходят тут всякие, спать не дают… хулиганы». Потом потянулся, сладко зевнул, почесал лапой левый бок, – видать, отлежал его за долгую зиму, – обошёл поляну, пересчитал брошенные ружья, в задумчивости почесал за правым ухом и опять с недовольством проворчал: «Маловато, прошлый раз больше было… не хватит на мёд обменять… но, даст бог, эти не последние». Сгрёб под мышку ружья, да и пошёл обратно к берлоге. Остановился, взглянул в сторону дороги, растянул пасть ухмылкой, проворчал: «Охот-нич-ки!» И скрылся в берлоге.
На этом и сказочке конец. Кто понял, тот молодец. А кто не понял, тому другой конец:
Если против кого-то ты собрался —
Пусть будет трезвой голова всегда.
Всё рассчитай, чтоб в лапы чужие не попался,
А то печальной может стать твоя судьба.
Сказочка о двух рыбаках
Эх, люд российский! Хоть циркулярами его учи, хоть палкой – никакого толка. Который раз наступит на собственные грабли так, что искры из глаз, но даже синяки считать не будет, ради любопытства посмотрит, сколько осталось в граблях зубьев и, покачиваясь от удовольствия, как будто выпил стакан водки, пойдёт дальше; а грабли, как индийская корова, останутся лежать на прежнем месте. Не учится даже на своих ошибках, не говоря о чужих.
Вот и некоторые наши герои, не сделав соответствующих выводов из своего поведения на охоте над натуральным медведем, попали в ситуацию, когда пришлось встретиться с медведем, как модно сейчас говорить, виртуальным.
Итак, жили-были два приятеля, два рыбака. Первый – Гриша, второй (тот, который не Гриша) – Миша. Жили они душа в душу, особенно в неклёвые для них дни. А чего? Если ни тот, ни другой рыбы не поймал, значит, глаз не положишь на чужую богатую добычу, особенно когда другой твой глаз смотрит на собственную, мелкую. Какая обида?
Но в последние разы Миша всё ловит да ловит, а Грише – всё пусто – ноль. И так плохо на душе у Гриши, что глаза у него стали разными: один глаз, который смотрел на Мишину добычу, всё сужался и сужался, чтоб рыбу не видеть, а другой – всё расширялся и расширялся, чтобы у себя добычу получше разглядеть. Но там не убывало, а тут не прибавляло. И решил Гриша отпугнуть то ли рыбу от Миши, то ли Мишу от рыбы. По-доброму: как-никак приятели.
И вот, в один вечер, когда их жёны и соседка Гавриловна за столом пряли слухи языком, собрались Миша и Гриша на ночь на рыбалку – кинуть «мыша»2 на ленка. Кто не знает – рыба такая, а не девица, формами круглолица.
Скакали по колдобинам на мотоцикле, иногда выпивали для согрева, но к месту рыбалки прибыли. А ночь такая тёмная, ни то что в глаз – пальцем не попадёшь ни в какое место! Разбрелись приятели по «ямкам», забросили «мыша» в воду. Ждут, дожидаются. И слышит Гриша, что Миша ловит да ловит, ловит да ловит, – то ли слова какие-то знает, то ли «мышь» у него жирнее. А Гриша всё ждёт и ждёт, ждёт и ждёт – не ловит, видать, терпение у него железное. Но вот и оно лопнуло. И начал Гриша осуществлять задуманное…
Вытащил удочку из воды, воткнул в землю аккурат перед собою, набрал воздуха в ноздри, аж лёгкие его надулись, да упали куда-то вниз, закрыв заднее отверстие, и как зарычал по медвежьи, что есть мочи: «Уу-ррр!».
Батюшки ты мои, листья с деревьев попадали!
А когда Гриша зарычал второй раз, листья обратно на деревья заскочили, видать, с перепугу. И – тишина. Гриша слушает. Вдруг из самой глубины ужаса раздался крик: «Аааа!..». Река взбурлила, выплеснулась из берегов.
Через некоторое время, правда, вернулась, опять стала метров пять шириной, да полтора глубиной.
Гриша чего-то призадумался…
И снова, но уже с другого берега, раздался крик «Аааа!..» – да так страшно, аж недалёко от Гриши спящий глухарь с дерева упал. Гриша этого не видел (ночь тёмная была), но как рванул с испуга на тот берег, – да аккурат через удочку!
«Мышь» то ли лапой, то ли крючками схватила Гришу за место, где кончается спина и где началось чёрт знает что, отчего даже глухарь без нашатыря одыбал, и, не разобравшись, кто за кого, поскакал за Гришей, отчего тот в испуге плюхнулся в воду и через уши (рот был в воде, откроешь – простудишься) заорал:
– Маммма-а-а!
Выбравшись на другой берег, Гриша наткнулся на мокрого и дрожащего Мишу. Глядя на него, задумался. Потом осторожно расставляя ноги, подошёл к нему и тихо, с паузами, по-приятельски спросил:
– Т-ты ч-чего… это… мокрый?
– Бежал по воде… Тьфу, гадость какая… – промямлил Миша, выплёвывая травку водяную. – Медведь р-рычал…
– Ааа… – задумавшись, по-философски протянул Гриша. И вдруг без всяких пауз, видать, вся мировая философия у него кончилась, заорал: – Дурак! Так это ж я рычал!
Снял штаны – то ли от обиды, что его не поняли, то ли от чего-то ещё – и начал вспенивать ими реку. Пропустив её через штанины, успокоился. А чего шуметь-то? Рыбы-то теперь – ни у того, ни у другого.
И наступила тишина…
Вдруг из кустов за спинами приятелей, покачиваясь, вылез глухарь, – видать, здорово примял землю при падении. Не разобравшись, кто тут, зачем и почему, заорал: «Ку-ка-ре-ку!» – и те в испуге да с криками опять булькнулись в воду и поплыли что есть мочи, вдоль реки наперегонки, до родной деревни, где в тёплой избе их ждали жёны и Гавриловна, продолжая, как ни в чём не бывало, прясть слухи.
На этом и сказочке конец. Кто понял – тот молодец. А тому, кто не понял – другой конец:
Решив других медвежьим рыком напугать,
Готовься и свои штаны ты полоскать.
Сказочка о том, как дед Тимофей детей учил
Дед Тимофей, опершись на посох, выструганного им же много лет тому назад, задумчиво глядел, как Александр Степанович, директор школы, учитель русского языка и литературы, истории и других предметов (по принципу «заменяй всех, кого нет»), ритмично молотком, – удар в гвоздь, и удар мимо (в последнем случае сопровождаемый словами отнюдь не литературными) – прикреплял к стене старой школы доску с её новым наименованием.
– Ну, как? Пойдёт? – спросил Александр Степанович, повернувшись к деду Тимофею.
– Пойдёт-то пойдёт… – промолвил дед Тимофей, – только я одного не пойму… Что это за сокращение – «Минобрнауки»? ФСБ знаю, МВД знаю, милый сердцу Пенсионный Фонд знаю, а вот этого – нет… То ли Министерство обормотов науки, то ли обрывков науки (видать, теперь так чиновников этого министерства называют), то ли оборванцев науки это – учителей… – И, прищурив левый глаз, с ехидством спросил: – Ну не образины же от науки, а?
– Ты, дед, говори, да не заговаривайся! – улыбаясь и показывая пальцем в небо, ответил Александр Степанович. – А то, неровен час… сам знаешь… Доложат – без финансов останусь. Да и не я всё это придумал, а там наверху. Лучше бы деньги, что на вывеску «ушли», они к зарплате мне добавили.
– Знаю, знаю… – пробормотал дед Тимофей, и, прищурив правый глаз, продолжил размышления: – Ну, вот какая сентенсия получается… Как говорил товарищ Маркс, бытие определяет вывеску. Ты посмотри на свои штаны, ведь у тебя вся задница в заплатках! Значит, ты и есть оборванец… А если ты – оборванец, значит и министерство твоё так и называется – Минобрнауки… Прав был известный мореплаватель капитан Врунгель, когда говорил, что «как вы лодку назовёте, так она и поплывёт».
Перед железной логикой деда Тимофея никто и никогда устоять не мог. Вот и Александр Степанович в ответ только и смог промямлить: «Ну, да… ну, да…» – и с грустью продолжил:
– Вот внучка бабки Дуси в школу приходит с золотыми серьгами, лаком на ногтях… А я нынче последние брюки гладил, да и прожёг… Теперь у доски или боком стою, или задом к ней поворачиваюсь… А послушай-ка, дед! Там цыгане приехали, тряпки на продажу привезли. Скоро уже уедут, а мне надо и детям два урока подряд, русский и историю, провести, и брюки купить. Как быть? Может, ты меня заменишь? Всего один урок… Ведь ты у нас грамотный, когда-то учителем был. Хотя детям на это наплевать… Заменишь?
– А об чём тема? – оживившись, спросил дед Тимофей. – Я ведь любые темы могу!
– Из чего состоят слова. Ну, приставка там, корень, окончание. А я на обратной дороге заскочу к бабке Дусе за бутылкой самогонки. Идёт?
– Идёт! – обрадовался дед Тимофей.
Александр Степанович бросил молоток и поспешил к цыганам. А дед Тимофей тщательно соскрёб своим посохом грязь с сапог, вошёл в школу и направился к единственному классу, где обучалась сборная деревни. Вошёл в класс, увидел изумлённые глаза учеников – и забыл, «об чём тема». Когда пришёл в себя, вспомнил: урок о словах. «Ага, наверное, как появились слова», – подумал он и решительно дал себе команду: «Начнём!».
И начал:
«Жили были в одной пещере муж да жена. Правда, они не знали, что он муж, а она жена, так как тогда ещё слов не было.
И вот однажды муж пошёл на охоту, то ли за мамонтом, то ли за тем, что попадёт. А утро было раннее, туманное, – в общем, мокрое и холодное. Сидит он голый в кустах, с дубиной в руках, и зубы его выстукивают: Д-Д-Д-Д!.. И вдруг слышит совсем рядом леденящую душу вой: «У-Р-Р-Р, У-Р-Р-Р!». Испугался охотник, рванул, что есть мочи, в свою пещеру, только пар, то ли от кочки, то ли от кучки на месте пошёл! Заскочил в пещеру, сказать ничего не может: слов тогда не было. Жена оказалась в такой позиции, что не совсем довольная, что муж пришёл с охоты без мяса, да ещё с грязным задом, то ли от травы, то ли от земли, то ли чёрт знает от чего, да ещё с запахом не от мяса – взяла да и покрутила пальцем у виска, ведь слов тогда не было (и слава богу). Муж от такого явного издевательства осерчал, хотел что-то сказать, но только махнул от досады рукой и жалобно так простонал: «А-А-А!». Расстроенная и в недовольстве жена хотела послать такого охотника куда-нибудь, но слов тогда не было, поэтому у неё получилось только указание направления: «К-К-К-К».
Вот так в процессе труда, а точнее, неудачной охоты, появились первые слова: Дура и Дурак».
Тут прозвенел звонок, и от выбежавших из класса детей по всему двору понеслись два выученных слова: дура и дурак. Как будто до деда Тимофея этих слов не было! Он же, как пастух с посохом, вслед за стадом важно и чинно прохромал на улицу, к исходной точке своего триумфа. Но Александра Степановича там не оказалось. «Ну, и где же этот обормот?» – забеспокоился дед Тимофей. И вскоре услышал, как издалека плывёт в его сторону песня: «…Из за острова… на ст… стержень…», пока этот стержень в лице Александра Степановича не воткнулся ему в грудь.
«Вот те на! Влип в историю…» – загрустил дед Тимофей.
Как в воду глядел! Угадал не хуже Нострадамуса.
– Дед, а дед… – вырисовывая пальцем в воздухе какие-то потаённые знаки, с трудом и чуть ли не шёпотом проговорил Александр Степанович. – Проведи… историю… прошу… ты же можешь, а? Ты же… был учителем истории… Потом… заскакивай ко мне… покупку обмоем… ага?
– Фу-у… – протянул дед Тимофей. – Лады! История, так история…
Про тему спрашивать было бесполезно, и, к радости учеников, он вернулся в класс. Но о чём рассказывать, какую «сентенсию» выдать? И дед Тимофей начал думать логически: «Так, значит, про первобытный строй я им рассказал на уроке русского языка; феодализм они увидят дома, если дизель опять не даст свет хотя бы на шесть часов; почувствуют в хлеву и на огороде; социализм настолько развернулся, что превратился в папуасский капитализм – кого хошь, того и ешь, пошли отрыжки непонятно чего – ещё изучить надо… О, сентенсия!.. Расскажу про переходный период от тёмного времени к непроявленному, и что из этого получилось».
И начал:
«Жило-было царство, и, как в каждом порядочном царстве, жили-были царь и его правительство. Как-то забегает царь Борис на заседание своего правительства, весь взволнованный, корона американского производства на боку, лапти немецкого производства смотрят врозь, в одной руке замызганная телогрейка английского производства, в другой – бокал волшебной живительной воды производства отечественного. В гневе бросил телогрейку на стол, прямо на бумаги о росте благосостояния народа, и по-царски заругался:
– Царь я, аль не царь? А ну-ка, ответьте мне, министры – ненасытные канистры, советчики по гиблым делам!
– Царь ты, батюшка, царь! – завопили испуганные министры.
– А коль царь, так сколько мне ходить в старой телогрейке перед другими царями?! Ведь срамота одна! Хочу фрак закордонного фасону, но из российской материи, а не аглицкой, но по ихней… этой, как её… тех-но-ло-ги-и! Месяц вам сроку, чтобы скроить и пошить! А не то велю к ракете привязать вместо тягловой силы – и отправлю в космос… звёзды косить!
Царь стукнул бокалом по столу (как печать поставил), кинул старую телогрейку в камин, чтоб сгорела до основания, а затем хлопнул дверью, аж турецкая штукатурка посыпалась, да герб царский так наклонился, что один орёл стал косо глядеть на министров сверху вниз.
В ужас пришли министры, сумятица произошла в головах – что делать? Судили, рядили, и решили обратиться за помощью к загранице. Благо, она недалеко, за девятой горкой, да за одним океаном. И разослали гонцов во все концы света – ума разума набираться. Кто набрал жене заграничных подвязок, кто себе башмаков, а кто и просто – набрался. Но в назначенный день все стояли перед министрами и докладывали о приобретённом опыте.
Опыт одобрили, и закипела работа. Мастера кроили, шили – всё из российского материала, но по заграничным образцам: воротник – по немецкому, карманы – по шведскому, рукава – по французскому, пуговицы – по японскому, подклад – по американскому. Золотом расшили, бриллиантами усыпали.
Оглядели министры фрак, остались довольны.
Наконец настал торжественный час, когда пред очами царя на стол легло пошитое для него изделие. Царь медленно начал ходить кругами вокруг стола, изредка поглядывая на это сверкающее чудо. Ходил, ходил, корону с правого уха перекидывал на левое, бормотал что-то про себя, чесал то место, где спина теряет своё звонкое название, перекидывал корону с левого уха на правое, и опять что-то бормотал. Наконец остановился, повернулся к своим министрам, взглянул на них, дрожащих, и с горечью сказал:
– Да, господа министры, от жира не ребристы, советчики по воровским делам… Как ни крои, как ни шей с нашим российским… этим, как его… а ну-ка, министр внутренних дел, подскажи!
– Мен-та-ли-те-том, – промолвил министр пересохшим горлом.
– Во-во, я и говорю… опять забыл… министр по образованию, подскажи по-русски…
– Умом! – угодливо рявкнул министр.
– Во-во, с вашим умом хоть что, хоть из какого материала, хоть по какой технологии делай – всё равно в конце получится телогрейка, хоть и в бриллиантах! А руками придворных мастеров только собакам медали раздавать!».
На этом и сказочке конец. Кто понял – тот молодец. А тому, кто не понял – другой конец:
Коль умом не созрели своё новое создать,
Из разночужого – целого нам не слепить.
Как ни старайся,
творение лишь уродом может стать,
Хоть бриллиантами и золотом его расшить.