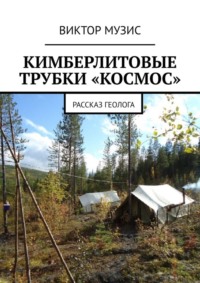Buch lesen: "Кимберлитовые трубки «Космос». Рассказ геолога"
© Виктор Музис, 2022
ISBN 978-5-0050-2720-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
СЕЗОН ПЕРВЫЙ
Это было на второй полевой сезон моей работы на Сибирской платформе по работам на кимберлиты.
До этого я работал на Колыме. Сначала от младшего до старшего техника у Шульгиной (был ее напарником), затем у Боброва (съемка на золото).Только после специального приказа по Министерству о переводе всех техников, имеющих высшее образование, в геологи, всех техников экспедиции перевели в геологи. Уже геологом поработал и в Верхоянье на флишоидных толщах (съемка на олово).
Начало работы геологом было тяжелым… Многие ребята давно уже работали на съемке и были знакомы с методикой проведением этих работ. Я же у Шульгиной колотил фауну при составлении ею разрезов и занимался оформлением многочисленных образцов, отбираемых ею для различных анализов.

Володя Бобров
А нужен был навык геолога-съемщика, которого у меня не было, я только знакомился с ним, работая у Боброва. У него я работал техником, развозя горняков к местам работ, задавая и описывая горные выработки и промывая отобранный материал лотком.
Помню, решил как-то не просто воткнуть в готовый шурф сухую лесину корневищем кверху, положено было отмечать местоположение горных выработок на местности, а сделать как положено – срубить свежую лесину, вырубить Г-образную площадку у комля и подписать. Шарахнул по лесине топором, да неудачно. Бывает и «на старуху проруха!». Топор отскочил рикошетом и тюкнул меня чуть-чуть по ноге у щиколотки, сверху. Я по началу и внимания не обратил. Потом чувствую, неудобно что-то ноге… Снял резиновый сапог, размотал покрасневшую портянку, а там… Обратно сапог одеть я уже не смог. Описывал шурфы прямо из вездехода, порода была суглинки четвертичные (так называемые «Едомные»), а горняки сами мерили размеренным шестом глубину и набирали песок на промывку.

Бобров вечером, выходя из маршрута, подошел к нам и крикнул мне издали:
– Виктор, иди сюда!
– Сам иди! – улыбаясь, крикнул я в ответ.
Немая сцена!.. «Вожатый удивился, вагон остановился!» Бобров подошел, я показал перевязанную ногу.
– Ну и как же ты теперь? – спросил он.
– Да горняки сами все сделают… – и продемонстрировал: один из горняков взяв мою измерительную длинную палку из лиственницы с нанесенными на нее делениями и опустил в шурф. Наглядно было видно, каков слой песка на дне и общая глубина шурфа.
А в лагере Дима Израилович дал мне свой 47-й и я боле-мене ковылял. Нога только не держалась в ступне, а «шлепалась» сразу, не держась на пятке. В Москве Дима свел меня со знакомым хирургом, тот пощупал, приложил мой палец к ранке и сказал:
– Чувствуешь, сухожилие повреждено. Операция пустяковая, захочешь – сделаем.
Но я не решился. А где- то через год нога уже работала нормально.

А как-то, уже в сентябре, уже лег снег и ручьи покрылись тонкой коркой льда, мне поручили промыть несколько десятков пробных мешков мерзлого суглинка из шурфов. Как?
«Проявляй солдатскую смекалку! – сказал мне как-то отец. – Начальник не всегда должен думать за тебя.
Мы загрузили вездеход, подвезли мешки к ручью, выгрузили их и он уехал за следующей «порцией». В напарники дали рабочего. Долго думать не пришлось: поставили две треноги, на них перекладину, развели под ней костер и подвесили на крючок ведро с водой. В ручье проломили лед, раскидали обломки-льдинки, я надел матерчатые перчатки, на них резиновые грубые, чтобы не колоть пальцы об щебень, растирая суглинок, и, опуская мешок в ведро с кипятком, вываливали размякшую породу в лоток. А там уж дело привычное – растираешь суглинок, промываешь породу, освобождая ее от глиняных частиц и песка и сливаешь шлихи в шламовые матерчатые мешочки. Мешочки тут же сушишь у костра на камнях и пересыпаешь в маленькие крафт-пакетики. Всего-то и делов… Как говориться: – «Наливай, да пей!».
А первый свой маршрут и первые геологические точки я помню по сей день.
– Володя, – помню, крикнул я Боброву (начальнику партии), встретившись с ним в первом самостоятельном маршруте. – Я ничего не понимаю!

Кочка мерзлотного пучения
Настолько все было задерновано и только вершины плоских сопок, стоило подняться выше 300-метровой горизонтали, были свободны от леса. А на склонах одна щебенка (дресва) в кочках мерзлотного вспучивания. Но, со временем, привык и даже в чем-то маленько стал разбираться.
Но, после двух лет (я попал на завершающие 2-года) работы (а всего на съемку листа отводилось 4-ре года), костяк партии был оставлен на издание, а остальных распределили по другим партиям и по разным регионам.
Меня определили в партию к Башлавину Дмитрию Константиновичу, работающему в Верхоянье с базой в Батагае.
Очень не хотелось расставаться с Колымой, с привычными базовыми поселками – Зырянкой и Лабуей (что ниже Средне-Колымска). Ведь я довольно долго работал там техником у Шульгиной Валентины Ивановны и даже осмелился называть ее Валей в последние годы работы с ней. А какая там была охота! А какая рыбалка! Как я полюбил эти места!

Сибирский хариус
Стоя как-то в кассу за зарплатой в последние дни работы у Боброва и перекидываясь шуточками со знакомыми и приятелями, на вопрос одного знакомого (приятеля моего отца):
– Ну, и куда тебя?.
– Да к какому-то Башлавину! – машинально ответил я.
Знакомый что-то хмыкнул в ответ. Но каково же было мое изумление, когда я в первый раз приехал в назначенную партию, ведь это и был сам Башлавин, которого я звал «дядя Дима» при встречах у отца, но фамилией и не интересовался, зачем мне это надо было. Но в партии это был, конечно, только Дмитрий Константинович. Ну, Константиныч, и то только после года работы с ним.
Так вот! Взглянув на топографическую основу карт, я увидел сплошной коричневый цвет и все в сплошных сближенных завитушках рельефа – горный район… Как же здесь ходить в маршруты? А флишоидные толщи – я помню их еще по Крымской практике – сплошное чередование песчаников и алевролитов и все сжато и перемято в сплошные складки… А как в них разобраться?
– Ничего, – ободрил меня Десятерик (геолог соседней партии). – За пару лет привыкнешь, разберешься.
Действительно, за пару лет как-то маленько привык, разобрался. И к проходимости, и к флишу…
И с коллегами я сдружился. Только Башлавин все время ворчал по любому поводу. Я, поначалу, принимал все близко к сердцу, но ребята сказали мне, чтобы просто не обращал на это внимания. Действительно… Как-то, Битерман, начальник соседней партии, поднимая в его честь рюмку (мы на работе отмечали День рождения Константинича), произнес:
– Я вам расскажу один случай, а о ком идет разговор вы поймете и сами. Как-то его супруга решила отдать в химчистку его пиджак, на котором было чернильное пятно от авторучки.
– Да разве там смогут отчистить! – заметил он.
Но она все-таки отнесла пиджак в химчистку. И пиджак от пятна отчистили.
– Да разве у нас умеют делать чернила?! – сказал он.
И эта фраза – «Да разве у нас умеют делать чернила!» – стала у нас поговоркой.
А какая охота в горах! А какова баранина на вкус! Я сразу почувствовал разницу после оленины и сохатины.
И как мне понравились эти места!
Но дело опять не в этом!
После окончания 4-летних работ на отведенном «листе», начальник партии и старший геолог остались на его издании, а нас, геологов и техников, как обычно, распределили в другие партии.
Так я попал в партию Осташкина Игоря Михайловича на работы в совершенно новый для себя регион Сибирской платформы левобережья реки Лены. Там уже работали две партии – Сибирцева (база в пос. Жиганск) и Шахотько (база в пос. Оленек).
В новой для меня партии были три старших геолога (женщины) и техник, но в поле они не выезжали, кто по семейным обстоятельствам (?), кто по здоровью. И Осташкину, видимо, понадобился молодой, но опытный геолог, которого можно было бы посылать в командировки в местные территориальные геологические организации (в Нюрбу и Мирный) и использовать самостоятельным отрядом на полевых работах.
В первый полевой сезон Осташкин хотел проверить метод укрупненного шлихового опробования (УШО) в районе одного из кимберлитовых полей и заверить там как можно больше фотоаномалий, чтобы проверить кое-какую статистику.

Комната в геологической гостинице
Я вылетел в поле первым. Залетел в Нюрбу на неделю по командировке и вылетел в Жиганск. Очень мне понравилась гостиница для геологов (домик для приезжих) – небольшой, чистенький, уютный.
Прилетев в Жиганск, я расположился в комнате с ребятами из партии Сибирцева, получил со склада снаряжение и продукты и стал ждать Осташкина. А в Батагай, привычный мне Батагай, где была администрация экспедиции, я, неожиданно для самого себя, дал такую радиограмму:
«К полученному в Жиганске для партии Осташкина И. М. прошу прислать следующее:
1. Лодки резиновые ЛАС-500 – 2 шт.;
2. Консервы тушенка говяжья (страшный дефицит) – 2 ящика;
3. Молоко сгущенка – 1 ящик;
4. Лотки деревянные большие – 2 шт (страшный дефицит);
5. Сковороды чугунные большие – 2 шт.;
…еще кое-что из посуды. И подписал – Музис В. А.»
Прямого сообщения между Батагаем и Жиганском не было и радиограмму я дал скорее для очистки совести, так, на всякий случай. Но «там» видно так удивились моей наглости, что… дали все, что я просил. Может меня с отцом перепутали и на инициалы не обратили внимания. Не знаю. А может быть фамилия Осташкин свое дело сделала – он прилетел из Африки и работал первый полевой сезон. Да и с главным геологом экспедиции он был на ты… Не знаю.

«Пчелка» – АН-14
Как-то неожиданно прилетела «Пчелка» спецрейсом из Батагая, заказанная, видимо, Сибирцевым и Петров, сопровождающий, сказал мне: – Там твоя заявка. Тут уж пришла пора удивляться мне самому… Как все удачно совпало.
Скоро прилетел Осташкин с рабочими. Ему пришлось по дороге задержаться в аэропорту Якутска из-за невозможности вылета. Он даже заехал в Якутске на речной вокзал узнать о возможности выехать в Жиганск на теплоходе. Но тот уже ушел, а ближайший рейс был не скоро. Мы вылетели к месту полевых работ, где был оставленный геологами-разведчиками Амакинской экспедиции геологический поселок. Оставлен был в связи с окончанием работ.

В оставленном поселке геологов
Мы выбрали для жилья большую избу с двумя комнатами (по 30 кв. м.), прихожей и кладовкой. Это была изба то ли администрации, то ли камеральная. В первые же дни мы застеклили поврежденные окна из найденного целого блока оконного стекла (я поразил Осташкина, достав из своих запасов стеклорез), починили крышу найденным рубероидом, сколотили нары и я даже притащил из одной избушки самодельную, но искусно сделанную кресло-качалку.
Полазив с ним по отвалам всех ранее выявленных кимберлитовых тел этого поля, а они располагались довольно компактно, отобрав образцы пород и отшлиховав нижние части склонов и ручьев, он, убедившись, что я хорошо ориентируюсь по аэрофотоснимкам, оставил меня заверить полсотни выделенных фотоаномалий, а сам сплавился вниз по реке с переброской на реку Тюнг, где базировалась партия Сибирцева.

Проводы Осташкина, река Улах-Муна
Интересна конструкция его сплавного сооружения: катамаран из двух 500-к он поставил на плот из сухих досок, к которому приделал четыре полоза-салазки (как санки). Понтоны жестко прикрепил к плоту. Таким образом увеличилась загрузка лодок, а их днища были надежно защищены от порезов на перекатах. Сооружение, конечно, довольно тяжелое и не очень хорошее для мелких рек с перекатами, но довольно остойчивое и удобное для рек с глубокими плесами.

Проводы… Река Муна
Мы помогли им сплавиться по Улах-Муне, протаскивая на перекатах их «сооружение» до устья реки (километров 10—12), а дальше по Муне они сплавлялись вдвоем.

Участок «Алексеевский», река Тюнг
Рабочим у него был Саша Арефьев – инженер-электронщик и страстный охотник и любитель-рыболов. Саша сделал и подарил мне искусно сделанный из напильника нож с витой деревянной ручкой в деревянных ножнах, стянутых медными кольцами из гильз. Это был один из самых удобных моих ножей, помимо двух немецких штыков и перочинных ножей. Перочинные ножи с усиками для вытаскивания гильз из ружья я почему-то все время терял. А Сашин нож впоследствии потерял Валера Истомин, когда я забыл нож в базовом поселке, а он взял его и пользовался весь сезон. Ему он тоже понравился. Одни ножны остались.

Саша Арефьев
Один штык-нож, видимо от немецкой винтовки Маузер, я выкупил за пару бутылок у своего коллеги-приятеля. Нож был какой-то непрезентабельный что ли, тупой, с немного укороченным лезвием и без накладок на ручке. Но я сразу оценил его перспективу и отнес на рынок к точильщику. Тот сказал:
– Покажи!
Но, стоило мне только вытащить его чуть-чуть из внутреннего кармана пальто, как он зашептал:
– Спрячь, спрячь…
И повел меня в какой-то подвал, где у него была мастерская. Там он наточил его до бритвенной заточки и придал отличную форму носику.

Когда приятель увидел, как выглядит теперь его нож, он сказал, что знал бы заранее, что можно его таким сделать, ни за что бы не продал.
Ножны я изготовил из деревянных тонких планок от продуктового ящика, склеил их БФ-ом и сбил маленькими обувными гвоздиками. Обтянул коленкором так, чтобы можно было надевать на ремень. А вставки на рукоятку выпилил из деревянной капы. Разделывал этим ножом только крупную добычу – сохатых.
А второй штык-нож в металлических ножнах мне подарил тесть.

На сезон я был обеспечен продуктами, снабжен рацией РПМС времен Великой Отечественной и тремя рабочими.

Рация РПМС
Так осуществилась моя давнишняя мечта – пожить в избе, где днем прохладно и нет комаров, а в непогоду тепло от печки буржуйки. Сидишь у печки в кресле, качаешься, а за окошком дождик по стеклам или снежинки хлопьями… Спидола играет… Лепота!
Ну вот, теперь, когда вступление закончено, можно перейти к делу!
Работать самостоятельно мне нравилось. Каждый день, за исключением дождливых, мы лазили на склоны, выходили на аномальные участки, хорошо определяемые на склоне сгущением кустарника тальника и ольхи (высотой до 1.5—2 м), копали в нижней части участка, чуть ниже сгущения кустарников, закопушки до мерзлоты (см 40—60) и набирали в пробные брезентовые мешки выбранный элювиально-делювиальный материал. Затем спускались к речке и промывали породу лотками.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.