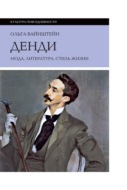Buch lesen: "Время банкетов"
© 2016, Publications de la Sorbonne – Paris, France,
© В. Мильчина, перевод с французского, 2019,
© OOO «Новое литературное обозрение», 2019
* * *
От переводчика
Увидев на обложке книги, переведенной с французского, слово «банкет», читатель может подумать, что это очередной рассказ о французской гастрономии. Но книга современного французского историка Венсана Робера обращена вовсе не к любителям вкусно поесть, а к людям, которые интересуются политической историей и ищут ответа на вопрос, когда и почему в обществе, казалось бы, вполне стабильном и упорядоченном происходят революции. Можно было бы пошутить, что все-таки не случайно у французов, любителей вкусно поесть, становление гражданского общества происходило не где-нибудь, а именно за обеденным словом, однако Венсан Робер показывает гораздо более глубокие и серьезные корни этого явления.
Предмет книги – банкеты, которые устраивали в честь оппозиционных депутатов их сторонники. Почему именно банкеты? Издавна главным распределителем, главным подателем пищи считался государь. Это представление было запечатлено в специфической придворной церемонии, именуемой «большим столом»: начиная с Людовика XIV французские короли устраивали торжественную трапезу на глазах у зрителей-подданных. Либеральная буржуазия, организуя банкеты и порой допуская на них зрителей, ставила себя наравне с королевской властью, иначе говоря, банкеты становились формой утверждения суверенитета народа в противовес суверенитету короля. Традицию устройства политических банкетов Робер связывает также с религиозными представлениями (совместное вкушение пищи как своеобразная форма светского причастия) и с экономическими учениями (инициаторы банкетов яростно оспаривали формулу Мальтуса, согласно которой «на пиру природы места для всех не хватит», и отстаивали идею пира равных, пира для всех).
Эта политическая метафорика, или образный фонд эпохи, исследуется автором на самых разных примерах. Тема банкета, или пира, обнаруживается в самых разных областях жизни, литературы и философии: в сочинениях социалистического мыслителя Пьера Леру и в проповедях доминиканца Лакордера, в притче английского пастора Мальтуса и в романе Эжена Сю; в пьесе Александра Дюма и в диалоге Шарля Нодье. Реальный банкет, или пир, превращается в политическую метафору.
Робер неоднократно критикует «ограниченность традиционной позитивистской истории, для которой достаточно установить факты и подробно о них рассказать (притом что рассказ этот в любом случае останется неполным)». Сам он, правда, вовсе не чуждается сбора фактов, тем более существенного, что его предшественники, за очень редкими исключениями, исследовали более или менее подробно только кампанию банкетов 1847 года, а о предшествующих банкетах, ничуть не менее важных, не писали почти ничего. Однако фиксацией фактов Робер не ограничивается и тщательно расшифровывает непонятную в наши дни, но очевидную для людей XIX века символику банкетов. Ведь значимо было всё: выбор персон, в честь которых устраивается банкет (как правило, либеральных депутатов); сумма, которую собирали по подписке с каждого участника (чем меньше сумма, тем более демократичен банкет); порядок и содержание тостов (например, присутствует среди них тост за короля или нет) или, напротив, их подчеркнутое, почти скандальное отсутствие; выбор и оформление помещения для трапезы и даже меню (о котором, впрочем, источники сообщают особенно скупо). Все это благодаря интерпретациям Робера оказывается «говорящим».
Перечисленные подробности – лишь малая часть всего того увлекательного, что содержит исторический пласт книги. Но не менее важен и ее политический пласт.
О том, как после Белого террора и господства ультраконсерваторов в правительстве гражданское общество эпохи Реставрации делало первые робкие шаги с помощью банкетов, красноречиво свидетельствует описание первого политического банкета этого времени, состоявшегося в заведении под названием «Радуга» 5 мая 1818 года. Еще двумя годами раньше, по свидетельству либеральной газеты «Минерва», «встреча трех человек считалась скоплением народа, а встреча с глазу на глаз казалась подозрительной», а тут четыре сотни человек сошлись на обеде и «говорили друг с другом без боязни». Более же всего потряс собравшихся, по большей части не знакомых друг с другом, тот факт, что их так много – целых четыре сотни (притом что общее население Парижа составляло в это время чуть более 700 000 человек). В дальнейшем политические декларации организаторов того или иного банкета содержались именно в тостах, но на банкете в «Радуге» никто тостов не произносил: этим людям было достаточно молча взглянуть друг на друга и убедиться, что они не одиноки.
Робер показывает, как постепенно банкеты становились важной формой политической жизни и влияния на власти, причем влияния исключительно мирного. Организаторы последней кампании банкетов в 1847 году вовсе не были оголтелыми революционерами, недаром они в основном принадлежали к «династической оппозиции», или «династической левой», то есть поддерживали правящую Орлеанскую династию, но выступали за реформирование ее политики. Представители этой оппозиции боролись за политическую реформу, чтобы избежать социальной революции, они старались уберечь режим от гибели с помощью расширения его электоральной базы – но правительство оставалось глухо и само вело себя к гибели. Вело и привело, потому что покусилось на то, с чем французы 1848 года расстаться не желали, – свободу граждан «собираться мирно и без оружия».
В одном из очерков сборника «Сцены частной и общественной жизни животных» (1842) описан наступивший после того, как звери совершили революцию, «великий момент: дело дошло до тостов»:
К несчастью, не только порядок произнесения тостов, но даже их число были определены заранее. Это едва не вызвало недовольства. «Положим, поголодать даже полезно, но подавиться тостом – это верная смерть», – роптали ораторы. ‹…› Нечего и сомневаться в том, что первый тост был произнесен за свободу. Это дело обычное, и если бедная свобода до сих пор так слаба, то не пирующие тому виной. ‹…› К концу вечера публика так разгулялась, что сломала фонтан, и это позволило всем напиться не только вдоволь, но и допьяна. ‹…› Условились никому не подчиняться, говорить что взбредет в голову и вовсе ни о чем не думать. Никому уже не было дела ни до будущего звериной нации, ни до будущей политики ‹…›; все желали только петь и плясать1.
Автор этого очерка, издатель Пьер-Жюль Этцель, писавший под псевдонимом П.-Ж. Сталь, явно не принимает обычай произнесения политических тостов всерьез и отзывается о нем с иронией, если не с пренебрежением. Но книга Робера показывает: так относились к политическим банкетам далеко не все. Находились и такие французы, для которых банкет становился важнейшим событием повседневной жизни, поскольку они были уверены: от банкетов зависит будущее Франции.
* * *
В книге Робера очень много имен политических и государственных деятелей, которые мало что говорят не только современному русскому, но, подозреваю, и современному французскому читателю, если он, конечно, не профессиональный историк. Но мне как переводчику очень хочется призвать тех, кто возьмет в руки эту книгу и начнет ее читать, не бояться этих подробностей, а следить за мыслью автора и за увлекательным историческим и политическим сюжетом. Уверяю, дело того стоит.
Для того чтобы облегчить читателю знакомство с русским переводом, следует сделать несколько пояснений.
Начну с короткой исторической справки. С 4 июня 1814 года, когда король Людовик XVIII, вернувшийся на престол после падения Наполеона, даровал французам Конституционную хартию, и до 24 февраля 1848 года, когда произошла Февральская революция, Франция была конституционной монархией. Законодательная власть принадлежала двухпалатному парламенту, в котором низшую палату (палату депутатов) выбирали, а членов верхней (палаты пэров) назначал король. Он же назначал представителей исполнительной власти, то есть кабинет министров. Конституционная монархия во Франции была цензовой: и право избирать, и тем более право быть избранными принадлежало лишь людям определенного достатка. В эпоху Реставрации (1814–1830), согласно Хартии, депутатом мог стать лишь человек, достигший сорокалетнего возраста и платящий в год не меньше тысячи франков прямых налогов (их было четыре: торгово-промышленный, поземельный, подомовой и налог на окна и двери). Право избирать депутатов имели только люди старше тридцати лет, платящие не меньше трехсот франков прямых налогов. До 1824 года депутатов выбирали на пять лет, причем за счет частичных выборов палата ежегодно обновлялась на одну пятую часть. С 1824 по 1830 год выборы проводились раз в семь лет без частичных выборов. После революции 1830 года французы вернулись к пятилетнему сроку без ежегодного обновления.
Число цензитарных избирателей было невелико (в 1815 году 72 000 из 30 миллионов, в 1817 году – 100 000), вдобавок не все из тех, кто мог избирать, спешили воспользоваться своим правом (в 1815 году таковых нашлось всего две трети от общего числа).
Понятно, что избиратели составляли разряд граждан, которые пользовались уважением и в которых власти желали видеть свою опору. Поэтому правительство ревниво следило за участием избирателей, не говоря уже о депутатах, в оппозиционных политических банкетах и последовательно выступало против расширения электоральной базы.
Отчасти такое расширение произошло после Июльской революции, когда король Карл Х, представитель старшей ветви династии Бурбонов, был свергнут с престола и королем стал Луи-Филипп, герцог Орлеанский, представитель младшей ветви той же династии, призванный на престол палатой депутатов. Была принята новая редакция Хартии, согласно которой и возрастной, и имущественный ценз как для избирателей, так и для избираемых уменьшился: отныне депутат должен был достигнуть тридцатилетнего возраста и платить в год не меньше пятисот франков прямых налогов, а избирателям полагалось быть не моложе двадцати пяти лет и платить не меньше двухсот франков прямых налогов. В 1831 году из 32 с половиной миллионов французов право быть избирателями имели 166 000 человек (а воспользовались этим правом 125 000).
Та часть политической элиты, что при Реставрации была в оппозиции, а после 1830 года пришла к власти, считала, что дальнейшее расширение избирательного корпуса не только не нужно, но даже вредно, поскольку правоспособность напрямую связана с имущественным положением и лишь наличие зажиточных избирателей может гарантировать режиму стабильность и порядок. Напротив, другие политические деятели, в принципе поддерживавшие режим, считали, что только расширение избирательного корпуса может позволить правительству остаться у власти, а стране – развиваться эволюционным путем. За это и боролись те «реформисты», которые устраивали кампанию банкетов в 1840 и 1847 годах.
Если в эпоху Реставрации политическая жизнь определялась прежде всего противостоянием ультрароялистов, конституционалистов и независимых (или либералов), то при Июльской монархии политический спектр стал более разнообразным. Правящая партия с легкой руки короля Луи-Филиппа, сказавшего в одной из речей вскоре после своего прихода к власти, что он стремится вести «политику золотой середины», далекую и от анархии, и от деспотизма, именовалась (зачастую иронически) партией золотой середины, или партией сопротивления (имелось в виду сопротивление попыткам дальнейшей либерализации режима)2. Члены этой партии, самым видным представителем которой был Франсуа Гизо, до 1830 года отстаивали либеральные взгляды, но после революции перешли на консервативные позиции. Партии сопротивления противостояла партия движения, представленная левым центром и уже упоминавшейся династической оппозицией, наиболее видным деятелем которой был Одилон Барро. Еще левее были радикалы-республиканцы (такие, как многократно упоминающиеся в книге Ледрю-Роллен и Гарнье-Пажес), а на самом левом фланге, уже вне парламента, находились социалисты-фурьеристы и коммунисты-«икарийцы» (последователи Этьенна Кабе). Все эти люди по-разному представляли себе политическое будущее Франции: сторонники династической оппозиции желали лишь расширения электоральной базы, а радикалы мечтали о всеобщем избирательном праве. Возможно, все они никогда не объединились бы, если бы не непредусмотрительная политика июльских властей, которые через восемнадцать лет в других условиях повторили ошибку своего предшественника Карла Х и вознамерились отнять у народа то, чем он дорожил более всего; в данном случае этой драгоценностью стало право собираться мирно и без оружия. Именно поэтому последняя, 12-я глава книги Робера носит выразительное название – «Запретить банкет – значит развязать революцию».
* * *
Несколько замечаний о переводе терминов. Наибольшая сложность связана с самим французским словом banquet, стоящим на обложке книги Робера и обозначающим ее главный предмет. В русской традиции применительно к кампании 1847 года, приведшей к Февральской революции 1848 года, установилось употребление слова «банкеты». Однако по-французски и «Пир» Платона – это тоже banquet. Поскольку у Робера речь идет в основном про трапезы политические, то я, в соответствии с упомянутой традицией, называю их банкетами и лишь в некоторых случаях, когда по-русски решительно невозможно вести речь о банкете (например, невозможен «банкет праведников»), употребляю слово «пир» или, для ясности, сохраняю оба синонима (пир, или банкет).
Пояснения заслуживают два французских термина, сложных для передачи на русском языке: l’imaginaire и la sociabilité. Первый чаще всего переводят как «воображаемое», но это субстантивированное причастие по-русски громоздко и невнятно, поэтому я в данной книге предпочитаю – исходя из смысла текста – говорить об «образном фонде» или «образной системе»3.
Второй термин в книгах по социологии передают как «социабельность», но я, продолжая линию, избранную двадцать лет назад при переводе книги Анны Мартен-Фюжье «Элегантная жизнь, или Как возник „весь Париж“. 1815–1848» (1998), на которую Робер, кстати, по другому поводу ссылается в своем тексте, предпочитаю употреблять старинное русское слово «общежительность», означающее как раз совместное существование, жизнь в обществе.
Наконец, в книге упоминается огромное количество периодических изданий, причем названия их по большей части значимы, поэтому, чтобы избежать уродливых транслитераций вроде «Курье де Байон э де ла пененсюль» или «Журналь де коннессанс ютиль», все названия я даю в переводе, а для любознательного читателя, знающего французский язык, ниже приведен список этих изданий с французскими оригиналами.
«Альпийский патриот» – Le Patriote des Alpes
«Апостолическая газета» – L’ Apostolique
«Белое знамя» – Le Drapeau blanc
«Бретонский монитёр» – Le Moniteur breton
«Британская библиотека» – Bibliothèque britannique
«Британское обозрение» – Revue britannique
«Будущее нации» – L’ Avenir national
«Булонский комментатор» – L’ Annotateur boulonnais
«Век» – Le Siècle
«Вестник Байонны и полуострова» – Le Courrier de Bayonne et de la péninsule
«Время» – Le Temps
«Гаврская газета» – Le Journal du Havre
«Газета народа» – Le Journal du peuple
«Газета полезных знаний» – Journal des connaissances utiles
«Газета прений» – Journal des Débats
«Газета Соны и Луары» – Le Journal de Saône-et-Loire
«Гастроном» – Le Gastronome
«Друг короля» – L’ Ami du Roi
«Друг религии» – L’ Ami de la religion
«Друг Хартии» – L’ Ami de la Charte
«Европейский цензор» – Le Censeur européen
«Ежедневная» – La Quotidienne
«Западная национальная» – Le National de l’Ouest
«Земной шар» – Le Globe
«Иллюстрация» – L’ Illustration
«Интернациональный журнал тайных обществ» – Revue internationale des sociétés secrètes
«Историческая библиотека» – La Bibliothèque historique
«Коммерческая газета» – Le Journal du commerce
«Консерватор Реставрации» – Le Conservateur de la Restauration
«Конституционная» – Le Constitutionnel
«Курьер Соны и Луары» – Le Courrier de Saône-et-Loire
«Лионский курьер» – Le Courrier de Lyon
«Мастерская» – L’ Atelier
«Мирная демократия» – La Démocratie pacifique
«Мозельский курьер» – Le Courrier de la Moselle
«Молва» – La Renommée
«Монитёр» – Le Moniteur universel
«Народ-учредитель» – Le Peuple constituant
«Народная» – Le Populaire
«Национальная» – Le National
«Независимая» – L’ Indépendant
«Независимое обозрение» – Revue indépendante
«Нормандские письма» – Lettres normandes
«Обозрение двух миров» – Revue des Deux Mondes
«Общественная польза» – Le Bien public
«Освобождение» – L’ Émancipation
«Парижская газета» – Journal de Paris
«Парижское обозрение» – Revue de Paris
«Патриот Соны и Луары» – Le Patriote de Saône-et-Loire
«Представитель народа» – Le Représentant du peuple
«Пресса» – La Presse
«Провозвестник» – Le Précurseur
«Прогресс Соны и Луары» – Le Progrès de Saône-et-Loire
«Пропагандист Па-де-Кале» – Le Propagateur du Pas-de-Calais
«Религиозный мир» – L’ Univers religieux
«Реформа» – La Réforme
«Сборщица колосьев» – La Glaneuse
«Социальное обозрение» – Revue sociale
«Социальный прогресс» – Le Progrès social
«Суверенный народ» – Le Peuple souverain
«Трибуна департаментов» – La Tribune des départements
«Тулузский мемориал» – Le Mémorial de Toulouse
«Универсальная» – L’ Universel
«Французская газета» – La Gazette de France
«Французская Минерва» – La Minerve française
«Французский курьер» – Le Courrier français
«Художник» – L’ Artiste
«Часовой департамента Дё-Севр» – La sentinelle des Deux-Sèvres
«Шарантская газета» – Le Journal de la Charente
«Эльзасский патриот» – Le Patriote alsacien
«Эндрский разведчик» – L’ Éclaireur de l’Indre
«Эпоха» – L’ Époque
«Эхо Везона» – L’ Écho de Vésone
«Эхо фабрики» – L’ Écho de la fabrique
Вера Мильчина
Благодарности
Именно тогда, когда заканчиваешь книгу, лучше всего сознаешь, скольким людям ты обязан сказать спасибо.
Прежде всего это, конечно, сотрудники библиотек и архивов, которые стараются, порой в довольно трудных условиях, сделать все возможное, чтобы облегчить исследователю доступ к источникам.
Затем я хочу поблагодарить многих историков – коллег и друзей. Это друзья-медиевисты, которые не сочли странным, что специалист по истории Нового времени интересуется их предметом и методами исследования, – Лоран Феллер и Катрин Венсан. Это коллеги из Центра истории Французской революции (Университет Париж-1), с которыми я вел длинные и чрезвычайно полезные разговоры, прежде всего Франсуаза Брюнель, Жозиана Бурге-Рувер и Жан-Клеман Мартен, который был руководителем моей диссертации. Кроме того, это сотрудники Центра истории XIX века (Университеты Париж-1 и Париж-4), в первую очередь его руководители Ален Корбен и Доминик Калифа, а также Сильвен Венер, Эрик Ансо, Роземунда Сансон и Кристоф Шарль: все они меня поддерживали и подбадривали. Особого упоминания заслуживает моя коллега Майте Буисси, превосходно знающая этот период: ее советы принесли мне очень много пользы, а ее неистощимая способность фантазировать на исторические темы служила для меня постоянным источником вдохновения. Не стоит и говорить, что за все возможные неточности и несовершенства этой работы отвечаю только я сам.
Наконец, я безмерно благодарен моим родным, которым понадобилось огромное терпение, чтобы вынести мужа, отца и сына, жившего не только в настоящем времени и часто и надолго покидавшего их ради призраков времени ушедшего, каким бы увлекательным оно ни было. Им, моим родным, я посвящаю эту книгу.
Прети, январь 2009
Введение
Насколько мне известно, нет ни более знаменитого, ни более ядовитого свидетельства о том, что представлял собой политический банкет XIX века, чем письмо, которое в самом конце декабря 1847 года написал своей любовнице Луизе Коле двадцатишестилетний житель Руана по имени Гюстав Флобер, в ту пору еще никому не известный:
Я еще теперь под впечатлением этого зрелища, одновременно и гротескного, и жалкого. Я присутствовал на банкете реформистов! Какой вкус! Какая кухня! Какие вина! И какие речи! Ничто не могло бы внушить мне более глубокого презрения к успеху, чем эта картина, свидетельствующая о том, какой ценой его достигают. Я оставался холоден, и меня тошнило от патриотического энтузиазма, который вызывали «кормило государства», «бездна, в которую мы низвергаемся», «честь нашего знамени», «сень наших стягов», «братство народов» и прочие пошлости в том же роде. Прекраснейшие творения мастеров никогда не удостоятся и четверти этих рукоплесканий. Никогда Франк Альфреда де Мюссе не вызовет тех кликов восторга, которые доносились со всех концов зала в ответ на добродетельные завывания г-на Одилона Барро и сетования почтенного Кремьё на состояние наших финансов. И после этого девятичасового заседания, проведенного за холодной индейкой и молочным поросенком и в обществе моего слесаря, в особо удачных местах хлопавшего меня по плечу, я воротился домой, промерзнув до мозга костей. Как низко ни цени людей, сердце наполняется горечью, когда перед тобой выставляют напоказ такой нелепый бред, такое беспардонное тупоумие4.
Руанский банкет, куда Флобер со своими друзьями Луи Буйе и Максимом Дюканом отправился из любопытства, этот банкет, который он осудил так строго, стал кульминацией кампании, начатой полугодом раньше борцами за избирательную и парламентскую реформу и против иммобилизма, отличавшего правительство Гизо. В это время почти никто не мог вообразить, что режим падет через два месяца и что погубят его уличные демонстрации, вызванные запрещением реформистского банкета в двенадцатом округе. «Мы не постигали, – писал Максим Дюкан четверть века спустя, – что правительство может быть встревожено этим замысловатым красноречием, и были убеждены, что люди, изъясняющиеся языком столь претенциозным, столь убогим, столь бедным, обречены сделаться посмешищем в глазах людей здравомыслящих. Мы рассуждали как дети; ведь именно это грубое сладкое вино пьянит слабые умы, иначе говоря, большинство населения»5. Объяснение, конечно, чересчур простое. А проблема остается: нам еще и сегодня трудно понять, каким образом эта кампания банкетов, осмеянная отнюдь не только Флобером и Максимом Дюканом6, могла послужить причиной такого большого политического потрясения и в конце концов революционным путем привести к введению всеобщего голосования (правда, только для мужской части населения) – этой основы демократического устройства современной Франции.
Между тем события, происшедшие за те два месяца, которые отделяют руанский банкет от провозглашения Республики в Париже 24 февраля 1848 года, хорошо известны, и уже давно. Незадолго до Первой мировой войны историк Альбер Кремьё на основании источников, доступных в то время (впрочем, с тех пор их число существенно не увеличилось), восстановил эту цепь событий. Сначала – королевская речь на открытии парламентской сессии, бессмысленно провокационная, поскольку в ней реформистская активность названа разгулом «страстей враждебных или слепых». Затем дебаты в палате депутатов о том, как ответить на эту речь, и яркое выступление Токвиля7, который проницательно указывает на грозящие Франции опасности, однако никто к нему не прислушивается. Между тем в Париже в это время ведутся по инициативе национальных гвардейцев двенадцатого округа приготовления к последнему большому реформистскому банкету; власти твердо решают его запретить, а депутаты оппозиции, напротив, намереваются принять в нем участие; в последнюю минуту власти идут на попятную, но это происходит слишком поздно и не может помешать народу выйти на улицу, а национальная гвардия не спешит разгонять манифестантов; король, видя, как его предают те, кого он считал самыми верными слугами режима, в панике отправляет в отставку Гизо; на бульварах толпа выражает бурную радость; перед Министерством иностранных дел, на бульваре Капуцинок, происходит перестрелка, ночью по улицам возят трупы, а на следующий день дело кончается падением режима. Все это широко известно, многократно описано, и сейчас споры ведутся лишь о том, что послужило причиной того первого выстрела, после которого началась стрельба и произошел раскол между правящим режимом и парижской улицей, – случайность (что вполне вероятно) или провокация? По правде говоря, для нас это не имеет большого значения, поскольку мы, в отличие от современников тогдашних событий, стремимся понять, что произошло, а не отыскать ответственных за то, что консерваторы уже через два года именовали «февральской катастрофой».
Большинство историков пользовались для описания этой череды событий знаменитой формулой Эрнеста Лабрусса: «Революции происходит помимо воли революционеров. Событие свершается, но правительства в него не верят. А „средний революционер“ его не желает»8. Революция 1848 года произошла внезапно, и утверждать, что ее спровоцировали революционеры, было бы сильным преувеличением9. Поскольку падение Луи-Филиппа не было ни первой, ни единственной революцией, свершившейся в течение этой «весны народов», следует предположить, что здесь действовали иные, более глобальные причины. Этими причинами историки сочли исключительно глубокий экономический кризис, который поразил Западную Европу после неурожаев 1845 и 1846 годов; особенно страшен был голод в Ирландии, унесший миллион жизней. Французские историки, в особенности те, которые, следом за Эрнестом Лабруссом, черпали вдохновение в марксизме, в течение двух-трех десятков лет, последовавших за столетием революции 1848 года, старательно изучали экономические и социальные аспекты кризиса середины века то на общенациональном, то на региональном или локальном уровне – в департаментах Эр или Луар и Шер (Жан Видаленк, Жорж Дюпё), в Бургундии (Пьер Левек), в альпийском регионе (Филипп Вижье), в Провансе (Морис Агюлон) и в Лимузене (Ален Корбен). Список этот не исчерпывающий, а поле для разысканий по-прежнему очень богатое, о чем свидетельствует, например, недавняя работа Никола Бургинá о хлебных бунтах. Как бы там ни было, благодаря всем этим работам мы знаем французское общество этого периода XIX века несравненно лучше, чем общество любой другой эпохи (напомню, например, о таких важных периодах, как конец Империи и начало эпохи Реставрации или конец Второй империи), – в особенности потому, что мы можем оценить остроту социальной напряженности как в перенаселенных деревнях, так и в городах, плохо подготовленных к наплыву мигрантов, и получить представление о чрезвычайном региональном разнообразии тогдашней Франции. Мы понимаем, какой глубины кризис разразился после Революции, тем более что нам хорошо известно и состояние правящих слоев, нотаблей, ставших героями монументальной диссертации Андре-Жана Тюдеска, опубликованной четыре десятка лет назад10. Но хотя Пьер Розанваллон восстановил политическую философию Гизо во всем ее богатстве и всей ее сложности, нам не удается осмыслить собственно политический характер кризиса: каким образом понять переход от социального кризиса к кризису политическому, если исходить только из скандалов, о которых писали оппозиционные газеты летом 1847 года, или из рассуждений о шовинизме мелких буржуа, раздраженных англофильской политикой Гизо? Пресса сама по себе революций не совершает, а международная политика правительства может вызывать несогласие, но не может разжечь восстание: иначе говоря, никто до сих пор не объяснил, отчего буржуазия перешла в открытую оппозицию к режиму, не испугавшись даже возможных беспорядков и начала революции. Значит, нужно вернуться к политическим факторам или, вернее сказать, к взаимодействию факторов социальных и политических, а конкретнее – к многократно осмеянной кампании банкетов.
Выборы в палату депутатов в августе 1846 года принесли правительству несомненную победу. Хотя предвыборная кампания проходила очень бурно и при активном участии французов, оппозиция потеряла немало мест в палате; Гизо отныне мог рассчитывать на поддержку консервативного большинства, более многочисленного и более сплоченного, чем когда бы то ни было: 291 депутат из 459 был готов покорно голосовать за правительство, ведь префекты ради их избрания не скупились на обещания и не чуждались прямого давления на избирателей. Среди избранных депутатов было немало чиновников, в частности тех должностных лиц, чья карьера напрямую зависела от властей: от них трудно было ожидать несогласия с правительственной линией. Понятно, что в этих условиях правительство не желало слушать никаких предложений о расширении корпуса избирателей и отвергло все соображения династической оппозиции относительно необходимости оздоровить нравственный климат в парламенте, то есть объявить некоторые чиновничьи посты несовместимыми с мандатом депутата. Министр внутренних дел Дюшатель провозгласил, что выборы доказали: страна не желает избирательной реформы, а Гизо напомнил, что в любом случае всеобщее избирательное право (которого, впрочем, династическая оппозиция и не требовала) введено не будет. Отказавшись признать, что результаты выборов нельзя полностью принимать на веру, поскольку на некоторых депутатов оказывали давление, а другим сулили доходные места, Гизо отверг возможность какой бы то ни было парламентской реформы, хотя самые молодые и проницательные представители большинства, поддерживающего правительство, такие как Морни, проявляли к ней интерес.
Но несмотря на экономические трудности, положение Гизо было бы вполне прочным, если бы целая череда финансовых и прочих скандалов не вынудила его расстаться с некоторыми из министров. Тем самым он дал новые поводы для нападок оппозиционной прессе, которая еще безжалостнее атаковала правительство с тех пор, как ряды оппозиционных газет, и без того уже существенно превосходивших правительственные по тиражам, пополнила «Пресса» Эмиля де Жирардена, занимавшая третье место по числу подписчиков среди парижских ежедневных газет. Поэтому не подлежит сомнению, что депутаты оппозиции, выступавшие за реформу, будь то радикалы или политики династической ориентации, были уверены, что, невзирая на результаты последних выборов, именно они выражают реальное мнение страны. А поскольку парламентское большинство оставалось глухо и непреклонно, после окончания сессии у этих депутатов не было иного выхода, кроме как «заговорить с балкона», обратиться напрямую к нации в целом. Отчего обращение к стране приняло форму кампании банкетов? Вопрос этот редко ставится отчетливо, настолько очевидным подобное положение дел представляется для нас – историков, занимающихся первой половиной XIX века. Объяснение же, которое приходится давать на невысказанные вопросы читателей или на высказанные вслух вопросы студентов, всегда примерно одно и то же: в ту эпоху было невозможно собирать митинги (отметим распространенность английского термина, чаще всего предпочитаемого французскому «публичному собранию») для мобилизации общественного мнения, поскольку правительство этого бы не разрешило. В самом деле, при конституционной монархии свобода собраний не была узаконена, тем более что тогдашние юристы, насколько можно судить, не видели большого различия между ней и свободой ассоциаций, а эта последняя, как хорошо известно, была ограничена очень жесткими рамками, особенно после 1834 года: ассоциации свыше двадцати человек и их периодические собрания нуждались в предварительном разрешении правительства, а деятельность их проходила под неусыпным надзором властей11. Таким образом, банкеты оставались единственным способом – безобидным, но юридически безупречным – обойти закон. Что плохого в том, что друзья или просто знакомые после совместного обеда произнесут один или несколько тостов за приглашенную выдающуюся особу или за осуществление заветных желаний всех собравшихся? Как помешать гостю ответить на лестные речи, восхвалявшие его в течение нескольких минут или даже нескольких десятков минут? Как помешать людям, произносящим тосты, сделать их более или менее развернутыми? Итак, банкет был поводом, и единственное, что представляет интерес для политической истории, это содержание тостов (а следовательно, требований, выраженных ораторами) и речей: если вернуться к руанскому банкету 1847 года, очевидно, что сварливая реакция Флобера не может удовлетворить историка-позитивиста, изучающего кампанию банкетов, но о гораздо более подробном рассказе Максима Дюкана мы этого сказать не можем. Спустя двадцать пять лет он дополняет собственные воспоминания сведениями, почерпнутыми из брошюры, опубликованной сразу после банкета, приводит имена ораторов, как тех, кто уже пользовался известностью (Одилон Барро, Дювержье де Оран, Кремьё, Друэн де Люис, Гюстав де Бомон), так и тех, кто прославился несколькими месяцами позже (генеральный прокурор Сенар, вскоре ставший министром внутренних дел в правительстве генерала Кавеньяка, а впоследствии защищавший Флобера на процессе «Госпожи Бовари»12), и даже тех, кто не прославился вовсе. Мы узнаем от него, что среди ораторов был некто Жюстен, советник Королевского суда, который произнес тост: «За бедные и трудолюбивые классы!», меж тем как другие превозносили «избирательную и парламентскую реформу», «финансовую реформу, экономию и разумное расходование общественных средств», «союз народов», а также независимую прессу и депутатов, выступающих за реформу. Что же касается информации о том, был или не был прежде всех прочих речей поднят тост за короля или за июльские установления (удобный способ отличить обыкновенные реформистские банкеты от других, открыто радикальных), ее историки считают простой данью исторической экзотике.