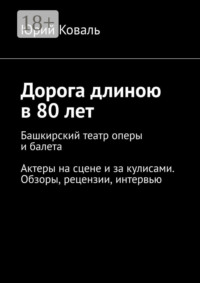Buch lesen: "Дорога длиною в 80 лет. Башкирский театр оперы и балета. Актеры на сцене и за кулисами. Обзоры, рецензии, интервью"
© Юрий Коваль, 2019
ISBN 978-5-4496-9866-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
«ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬНИЧИХА» ЗАПЕЛА НА БАШКИРСКОМ
14 декабря 1938 года в культурной жизни республики произошло чрезвычайно важное, поистине историческое событие: в Доме Аксакова уфимцы увидели оперу-буффа итальянца Джованни Паизиелло «Прекрасная мельничиха». Героиня оперы Амаранта и все остальные действуюшие лица пели на башкирском языке. В этот день родился Башкирский оперный театр. За давностью лет мы не должны забывать двух выдающихся деятелей, которые имеют самое прямое отношение к этому событию. Газиз Альмухаметов и Файзи Гаскаров собирали по всей республики талантливую молодежь для башкирской студии при Московской консерватории и национального отделения знаменитого Ленинградского балетного училища.
Еще одно имя навсегда вписано в историю Башкирского оперного театра. Это имя Петра Михайловича Славинского, прекрасно образованного музыканта, виолончелиста, композитора и дирижера. Он прибыл в Уфу, имея за плечами опыт работы дирижера в Большом театре, Перми и Ташкенте.
В городе не было симфонического оркестра. Петр Михайлович находил музыкантов на радио, в ресторанах и кинотеатрах. Оркестр состоялся. И вот 14 декабря свершилось чудо – уфимцы слушали блестящую, остроумную оперу итальянца Джованни Паизиелло «Прекрасная мельничиха».
Легенды театра
В СПЕКТАКЛЕ УЧАСТВОВАЛИ…
Памяти народного артиста БАССР Петра Кукотова и заслуженного артиста БАССР Юрия Суханова
Был 1972-й год. На сцене оперного театра шел «Фауст». В роли Мефистофеля выступал зарубежный певец.
Много на своем веку я повидал Мефистофелей. Одни не на шутку старались уподобиться дьяволу. Под брови вставляли полыхающие огнем стекляшки, страшно вращали глазами, ломали губы в сатанинской усмешке.
Другие упивались миссией Мефистофеля-искусителя. У этих актеров были свои «чары»: широкий жест, пошловатые намеки и нагловатое изящество.
Мефистофель из Польши был жестокий скептик, в прошлом, по-видимому, неисправимый идеалист. Он издевался над чистотой, наивностью, рыцарской доблестью и честью. Он смеялся над иллюзиями молодости, над тем, во что верил, чему поклонялся когда-то сам. Был момент – мне показалось, что Мефистофелю тягостно судьбы предназначенье. Такой Мефистофель вызывал сочувствие. Вышучивать Зибеля, терзать душу Маргариты, убивать Валентина – достойно ли это такого умницы, как он? Однажды в его глазах промелькнуло что-то вреде сострадания к Маргарите, милой бюргерше, оплетенной сетью условностей и добродетелей.
Актер прекрасно владел собой. Он повелевал слушателями. Партию Мефистофеля певец исполнял на языке Шарля Гуно. Однако в эпизоде с Мартой Шверлейн он не преминул спеть по-русски: «Эта старая красотка даже черту не находка». По рядам мгновенно пробежал понимающий одобрительный смешок. Актер был в ударе. Отличный голос, большая певческая культура, и при этом – никакого премьерства. Публика не скупилась на аплодисменты. Мефистофель ее околдовал.
Началось третье действие. Зазвучал знаменитый марш. Запели солдаты, возвратившиеся с поля брани домой. Я глянул на спесивого породистого туза, на солдат, выстроившихся перед ним и… обомлел.
В первом ряду стоял певец, некогда определявший успех спектакля, актер, имя которого долгие годы не сходило с афиш местного театра.
…Мальчишкой, выклянчив у матери «трешку», отправился я однажды в оперный театр. Какой-то респектабельный дядя заметил меня в толчее у входа, конфисковал три рубля, сунул контрамарку – и был таков. Течение вынесло меня на балкон. Подо мной шелестели скрипки оркестра, ворчал фагот, а рядом цокали каблучки опоздавших франтих, шептались сороки-студентки.
На сцене страдал мятежный, страстно любящий Демон…
Ночь. Горное ущелье. Здесь остановился на привал караван князя Синодала. За скалой промелькнула тень Демона. Балконная дверь с шумом распахнулась. Вбежали две женщины. Запыхавшиеся, разгоряченные. Одна из них – другой: «Сейчас… сейчас он станет петь».
И князь запел. Он тосковал по любимой, мучался предчувствием скорой смерти. Молодой, статный, красивый. Женщина на балконе зашуршала бумагой. Из ее рук выпорхнуло несколько ромашек. Они упали к ногам тоскующего князя.
Много лет прошло с того дня. Народный артист республики оставил сцену. Рассказывают: в прощальном спектакле он пел Канио в «Паяцах». Пел так, что у слушателей кровь стыла от восторга.
И вот он снова вышел на сцену. Теперь его никто не узнает. Теперь он – один из многих, персонаж толпы…
Солдаты умолкли. Чопорный туз прошествовал вдоль строя. Солдаты преклонили колена. Все, кроме одного, застывшего в полупоклоне. Возраст, а, скорее всего, взбунтовавшиеся герои, которые жили в нем, не позволили ему кланяться.
Со сцены он уходил тяжелой шаркающей походкой.
Почему? Почему он оказался на сцене, среди солдат? Генерал в солдатской шинели. Назойливый, как заноза, вопрос не давал покоя. Реальный и простой ответ: народный артист пришел на выручку хору, в котором скудно с мужскими голосами.
Ему, наверное, становится тепло и радостно оттого, что по нему нечаянно скользнет луч софита, который когда-то подолгу высвечивал его лицо – лицо Ионтека, Радомеса, Пинкертона…
Запах кулис, неслышные постороннему шорохи занавеса, всплески аплодисментов напоминают ему о молодости, о том далеком времени, когда любители оперы ходили «на него», дарили ему цветы. Солист спустился в хор. Он сбросил с себя черный плащ пылкого героя. Теперь он воин, крестьянин, горожанин, просто зевака – толпа.
Толпа не безлика. Ее составляют люди, актеры с разными судьбами.
…Холодный, послевоенный класс уфимской школы. У задней стены горбатятся парты. Семиклассники проводят вечер. Начался концерт. На табуретку взбирается мальчишка в стоптанных валенках и чистым жалобным дискантом поет «Когда я на почте служил ямщиком». Затуманились глаза старой учительницы. Вот она уже белоснежным платком трет покрасневший нос, промокает щеки. Оборвалась песня. Сорванцы-мальчишки забарабанили по партам и подоконникам, девочки деликатно били в ладоши – головокружительный успех. Солист сиял, как начищенная сковородка. Опьяненный шумным восторгом одноклассников, он спрыгнул с табуретки и убежал на школьный двор.
…Учителя пророчили ему славу большого певца. Он поступил в техникум и получил профессию, о которой его младший легкомысленный современник (ученик той же школы) написал в сочинении: «Я люблю лес, люблю собирать ягоды и грибы. И петь под гитару». Это означало – хочу стать геологом.
Геолога преследовали впечатления детства – шумный восторг товарищей, лестное пророчество учителей.
Однажды он решил: «Без театра, без музыки мне не жить», – и бросил свою высокооплачиваемую работу, поступил в музыкальное училище, стал петь в хоре оперы. Николая Гяурова из него не получилось. В кругу знакомых и друзей, когда-то поверивших в его звезду, он исполняет арии из классики, преображается в Мельника и Фарлафа, короля Рене и дона Базилио. Друзья искренне восхищаются его талантом, как и прежде, щедро хвалят, громко аплодируют и втайне недоумевают, почему он застрял в хоре.
Он не сделался брюзгой и не похож на обделенного судьбой гения, хотя и мечтал когда-то о славе Шаляпина. Он нужен театру. Стоит ему оставить сцену – хор, творческий коллектив обеднеют. Хору будет недоставать целого голоса, коллективу – целой личности.
…Шел 1972-й год. Оперный театр давал «Фауста». Спектакль имел большой успех. В нем были заняты: интересный своеобразный актер из Польши, народный артист, не смирившийся с возрастом и отставкой, и просто артист. Тот самый артист, без которого нет театра.
АРТИСТ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Однажды в музее Уфимского училища искусств мне показали скромную театральную программку Ленинградского Малого оперного театра. Достаточно было мельком взглянуть на нее, чтобы понять: этому музейному экспонату цены нет. На лицевой странице был портрет народного артиста РСФСР и БАССР Александра Сутягина, а на последней – его письмо народному артисту БАССР Петру Кукотову.

«Ленинград, 25 апреля 67 года.
Здравствуй, дорогой Петр Петрович!
Да, вот как время, да что там время – сама жизнь – мгновенно пролетела, и не заметили, как стали уже дедушками. Мы с тобой, Петрович, много радости доставили людям. Да и сейчас еще есть порох в пороховницах, есть еще чем поделиться с людьми.
Не так давно у нас лирические баритоны заболели, попросили меня спеть Жермона, а я десять лет после Уфы не пел его. Спел, и, говорят, неплохо, теперь в афишу стали ставить. А ты, говорят, профессором стал. Молодец, горжусь! Отдавай свое мастерство, сей доброе семя – всходы будут.
Обнимаю, целую, А. Сутягин».
Сутягин родился в станице Магнитной (ныне Магнитогорск) в многодетной семье. В детстве и юности жил в Белорецке. В 1938 году Московская консерватория снарядила экспедицию. Она отправилась искать таланты на необъятных просторах нашей Родины. «Селекционеры» завернули в Белорецк, прослушали Сашу – к тому времени он уже был известен по выступлениям в заводском клубе. И через короткое время Сутягин становится студентом консерватории. В 1941-м его зачислили в штат Башкирского театра оперы и балета, а в 1943-м, исполнив в студенческом спектакле партию Евгения Онегина, подающий надежды баритон с дипломом возвращается в Уфу.
То было начало его головокружительного взлета. В те времена режиссеры, слава богу, не занимались самовыражением, паразитируя на именах великих композиторов. Люди шли в оперу на Чайковского, Верди, Римского-Корсакова и на артистов, которые переносили их на два часа из трудного повседневного быта в пушкинскую эпоху, во времена Ивана Грозного или Древний Египет.
В Музыкальной энциклопедии писали: «Сутягин обладает красивым голосом, совершенной дикцией, ярким темпераментом, высоким актерским мастерством».
Кстати, он был первым исполнителем партий Пугачева («Салават Юлаев» Исмагилова), Голландца («Летучий голландец» Вагнера) и Клода Фролло («Эсмеральда» Даргомыжского).
Пятидесятые годы. Уфимцы живут без мобильников, компьютеров и телевизоров. Но у них есть книги и театр. Есть свои кумиры. В оперном – Петр Кукотов и Александр Сутягин. Участие в спектакле этих артистов гарантировало ему успех.
В 1955 году на Декаде литературы и искусства Башкирии в Москве республика показала себя с наилучшей стороны, продемонстрировав богатство и разнообразие многонациональной культуры. Ведущие актеры получили очередные почетные звания и заманчивые предложения.
В оперном были потери. В Ташкент уехал превосходный баритон Михаил Труевцев, Александр Сутягин отбыл в Ленинград, где был принят в прославленный коллектив Малого оперного театра.
Мне довелось видеть Александра Сутягина, что называется, в неформальной обстановке.
В тысяча девятьсот пятьдесят каком-то году в Башкирском оперном театре шла «Аида» Верди. Однажды на спектакль, заполнив до отказа балкон и галерку, примчались учащиеся авиационного техникума.
На следующий день артисты пришли к будущим конструкторам и технологам потолковать об «Аиде» и дать концерт из оперных арий. Среди гостей были исполнители главных партий Петр Кукотов (Радамес) и Александр Сутягин (Амонасро). Была и артистка, которая пела Аиду (ее имя я не стану называть). Один из учащихся, наивный, простосердечный парень, отправил певцам записку. Ее прочитал Александр Сутягин. «Стоило ли предавать родину и жертвовать собой ради Аиды, которая так себе?» – спрашивал юнец, имея в виду крупные габариты эфиопской принцессы. Тут надо сказать, что актриса, исполнявшая роль Аиды, как певица проявила себя с наилучшей стороны. Но вот поди ж ты – учащемуся уфимского авиационного техникума понадобился тонкий девичий стан.
Сутягин прокомментировал эту крамольную записку так: «В опере главное – музыка, голос, и нашу Аиду не в чем упрекнуть. Но я вас, ребята, прекрасно понимаю: вам хочется, чтобы она была гибкой и стройной. Увы, это опера».
Это было в середине прошлого века. Сегодня на оперу оказывают сильное влияние кино, эстрада, политика, глянец, фирмы – производители DVD, реклама и, прежде всего, деньги. Оперные спектакли поставлены на поток, это часть могучей индустрии развлечений.
До всего этого Сутягин не дожил.
На финише 2010 года в Уфе проходил тринадцатый Шаляпинский фестиваль. Среди его участников был наш соотечественник, выдающийся баритон Сергей Лейферкус.
Я не удержался и задал ему свой любимый вопрос: «Существует мнение, будто расцвет оперного искусства приходится на 60 – 70-е годы прошлого столетия. Вы согласны с такой точкой зрения?»
«Пожалуй, соглашусь. Это как выброс солнечной энергии. В те годы и в России, и за рубежом было немало выдающихся артистов. В Ленинградском Малом оперном театре это, конечно же, Сутягин, очень интересный артист, – Сергей Петрович назвал имя, которое особенно дорого уфимским меломанам. – Какой это был Голландец! В музее театра есть выразительный портрет Голландца – Сутягина. Если бы я был художником, я бы обязательно нарисовал его в этой роли!»
А я подумал о том, что в наши дни за Сутягиным охотились бы продюсеры престижнейших театров. Это был артист на все времена.

Александр Сутягин в ролях Голландца (Р. Вагнер «Летучий голландец») и Фигаро (Дж. Россини «Севильский цирюльник»).
ТАЛАНТ САМОРОДНЫЙ
12 июня 2007 года в Уфе был открыт памятник Федору Ивановичу Шаляпину. На небольшом пространстве между оперным театром и академией искусств (у ее стены как раз и «остановился» молодой начинающий певец Федя Шаляпин… в мраморе) собрались артисты, студенты, преподаватели – все неравнодушные к этому событию уфимцы. В толпе был заметен статный мужчина в светлой куртке, с крупными чертами лица и седым ежиком на голове. Это был профессор Омского государственного университета Борис Яковлевич Торик.
Вот уж кто точно не был здесь случайным человеком, праздным зевакой, так это Торик. Художник и певец, в прошлом солист Башкирского государственного театра оперы и балета, Борис Яковлевич немало потрудился для увековечения имени великого артиста.

Уж не знаю, на радость или на беду у артиста Торика был бас, а это значит, он попадал под мощное магнетическое притяжение Федора Ивановича Шаляпина, был его примерным учеником и страстным почитателем.
Многие басы болеют Шаляпиным, не избежал этой участи и Борис. На театральной сцене он исполнял партии из шаляпинского репертуара и так же, как его кумир, придумывал для своих персонажей костюмы и грим.
Борис Яковлевич немало постранствовал по России, жил в Новосибирске, Питере, Перми, Орле, Омске, но едва ли не лучшие годы прожил в Уфе.
Он заметно выделялся среди своих коллег – оперных певцов, которые существовали в своем кругу, замкнуто, келейно.
Такого разностороннего артиста, как Борис, в Башкирском государственном театре оперы и балета не было, пожалуй, никогда.
Торик жил с размахом и вкусом. Дружил с художниками и поэтами, был своим человеком в журналистской среде. Артисты проходили по разряду сослуживцев.
В 1965 году его избрали заместителем председателя Башкирского отделения Всероссийского театрального общества. Певец на общественной работе, слава богу, не сделался чиновником.
Однажды на него снизошло откровение: «Впервые на сцену Шаляпин вышел в Уфе, в опере Станислава Монюшко „Галька“. Он участвовал в благотворительном концерте, который давали в Дворянском собрании – нынешнем институте искусств. Как было бы здорово в честь этого события установить на фасаде досточтимого здания мемориальную доску».
Каждый чих в те прекрасные времена следовало согласовать с областным комитетом КПСС. На мемориальную доску требовалось получить его благословение. И оно было получено. Довести идею Торика «до ума» поручили инструктору обкома. Инструктор слышала, очевидно, что Шаляпин – не совсем наш: жил и умер за границей. Возможно, она даже знала, что его лишили почетного звания «Народный артист РСФСР» и талантливый Владимир Маяковский заклеймил певца в стихотворении «Господин народный артист».
Бедная женщина оказалась в сложном положении: выполняя поручение своего шефа, она боялась проявить партийную близорукость, утратить бдительность и в своей работе придерживалась тактики проволочек, опасаясь «как бы чего не вышло». Волынка тянулась чуть ли не три года. Торик успел познакомиться и подружиться с дочерью Шаляпина – Ириной Федоровной. Завязалась переписка. В ее коротких письмах были радость – в Уфе сообразили установить мемориальную доску памяти отца – и горечь: время идет, а ничего не делается.
И тогда хитроумный Торик предпринял дипломатический ход. Он сообщает инструктору обкома о том, что решил обратиться за поддержкой к выдающимся деятелям литературы и искусства, весьма недвусмысленно намекая на общественный резонанс. Письма Шолохову, Тихонову, Козловскому и другим уже готовы к отправке, уточнил Борис Яковлевич. Женщина, естественно, разнервничалась и сбивчиво просила его немного повременить.
…И вот метельным февралем 1967 года в уфимском аэропорту приземлился самолет из Москвы. Распахнулась дверь, и среди спускающихся по трапу пассажиров Торик без труда узнал Ирину Федоровну Шаляпину: она была похожа на своего отца. Ирина Федоровна прилетела на открытие мемориальной доски.
За несколько дней она успела заворожить всех, кто с ней встречался: энергична, любознательна, превосходный рассказчик. Некоторые доморощенные краеведы сообщают, будто в зале института искусств (этот зал теперь носит имя ее отца) она блистательно, в лицах и красках, прочитала рассказ Александра Куприна «Гоголь-моголь». Похоже, это миф, но он, право же, неплох.
Был в Ирине Федоровне какой-то нездешний, неуловимый шарм. Откуда он можно было только догадываться. Стареющая драматическая актриса была родом из Серебряного века. Надо полагать, общение с его творцами, дружившими с отцом, не прошло для нее бесследно.
Отношения Шаляпиной и Торика выходили за рамки формальных. Бывая в Москве, Борис спешил на Кутузовский проспект: навестить Ирину Федоровну. На стенах ее скромной квартиры висели подлинники картин Поленова, Серова, Коровина – художников, глубоко почитаемых Ториком.
Однажды Ирина Федоровна достала из платяного шкафа яркий, пестрый халат Шаляпина-Кончака и предложила его примерить уфимскому Кончаку. Не жалующийся на здоровье Торик почувствовал тогда свое сердце: ему стало вдруг тесно в грудной клетке.
В 1960-х годах в Уфе на студии телевидения поставили спектакль о композиторе Сергее Рахманинове, жившем в эмиграции, вдали от родины. Эпизодическую роль Шаляпина в нем сыграл Борис. Фотоснимок, на котором он в роли великого певца, Торик послал Ирине Федоровне и в нетерпении стал ждать ответа. Как вердикт экспертного совета, как приговор суда.
«…Мне интересно было увидеть, как вы играли роль отца, – писала она. – Это труднейшая задача». И пролила бальзам: «На фото вы выглядите довольно удачно».
Дочь Шаляпина умерла в 1978 году. У Торика хранятся ее редкие письма и пожелтевшая от времени экспрессивная открытка – Шаляпин в роли лишившегося рассудка Мельника (опера Александра Даргомыжского «Русалка). На углу открытки уверенной стремительной рукой написано: «Дорогому Борису Торику с благодарностью за помощь по увековечиванию памяти моего отца. С пожеланием успеха в искусстве. Ирина Шаляпина. Май 1972 г.»

Борис Торик в роли Мельника (опера А. Даргомыжского «Русалка»).
А теперь назад, к истокам.
12 мая 1945 года в Новосибирске распахнул двери оперный театр. В тот день давали «Ивана Сусанина» Михаила Глинки. Это было во всех отношениях уникальное, выдающееся событие. Прошло всего несколько дней, как смолкли пушки и фашистская Германия подписала акт о капитуляции, а истощенная войной голодающая страна-победительница открывала новый оперный театр. Фантастика!
Через три года, а именно 3 сентября 1948 года, в театральный коллектив пришло пополнение в лице подростка Бори Торика. Его прияли на работу учеником живописного цеха. Прошел год, и в трудовой книжке способного, схватывающего все на лету уже не мальчика, но юноши появляется новая запись: «художник-исполнитель».
Радиосеть оперного театра связывала живописный цех со сценой. Репетиции и спектакли транслировались, и Борис, корпевший над костюмами и декорацией, сам того не замечая, стал подпевать хору и солистам.
…То были замечательные годы: истосковавшиеся по мирной жизни люди поднимали страну из руин, жадно работали и учились. Борис не был исключением. Подающий надежды художник поступает… в Ленинградскую консерваторию на вокальное отделение.
На сцену Новосибирского театра оперы и балета он вышел студентом (доучивался в местной консерватории). Потом пел в Перми и Уфе.
К Уфе прикипел на долгих двадцать семь лет.
Оперный певец, занятый в основном в классическом репертуаре, он выступал с сольными концертами.
Спеть концерт, пожалуй, сложней, чем спектакль. Там у тебя есть «подпорки»: костюм, грим, партнеры и оркестр. На сцене концертного зала (если не считать аккомпаниатора) ты фактически один на один со слушателями, и эту дуэль надо во что бы то ни стало выиграть. Голос, жест, интонация, артистическое обаяние – весь арсенал брошен на покорение своенравного и непредсказуемого стоглавого существа по имени «публика».
Борис первым в Уфе удачно исполнил «Пять романсов» Дмитрия Шостаковича на стихи Евгения Долматовского, цикл Геогрия Свиридова на стихи Роберта Бернса. Он выступал в авиационном институте, музыкально-педагогическом училище, филиале Академии наук. В студенческой аудитории ему случалось комментировать исполняемое произведение.
9 мая, в День Победы, Борису доводилось давать концерт в госпитале. С трудом смиряя волнение, он пел фронтовые песни инвалидам второй мировой…
6 ноября 1962 года в Башкирском театре оперы и балета произошло знаменательное событие: впервые в Уфе была исполнена «Патетическая оратория» Свиридова на слова Маяковского. По этому случаю был собран мощный хор. В него вошли: Республиканская русская хоровая капелла (Москва), хоровая капелла профсоюзов, хоры училища искусств и музыкально-педагогического училища, хоровая капелла Дворца культуры имени Орджоникидзе, хор Башкирского театра оперы и балета.
Репетицию проводил выдающийся хормейстер Александр Юрлов.
«Выбор солистов оказался, на мой взгляд, удачным, – вспоминал позднее непосредственный участник репетиции профессор института искусств Михаил Фоменков. – Торик обладал голосом красивого, благородного тембра, импозантной – „под Маяковского“ – внешностью, исполнительским темпераментом и даром драматического артиста. Он был, по мнению Юрлова, в одном ряду с Ведерниковым и Нестеренко – солистами Большого театра».
Не трудно представить себе, что перечувствовал Борис перед выходом на сцену: надо было соответствовать великой музыке Свиридова и высоким требованиям Юрлова.
…И вот смолкли последние звуки оратории, в зале наступила напряженная тишина. Через некоторое время она взорвалась аплодисментами. Публика неистовствовала: это был успех, безоговорочный и громкий.
…Общительный, неравнодушный человек, жадный до новых знакомств, встреч и впечатлений, Борис не пропускал ни одного сколько-нибудь заметного события в культурной жизни миллионного города.
Каждый год, чаще всего летом, в Уфе объявлялся столичный или областной драматический театр. Гастроли продолжались едва ли не месяц. Именитые гости жили неспешной, размеренной жизнью: играли спектакли, выступали по местному телевидению, записывались на радио, знакомились с городом, его достопримечательностями и музеями.
Борис исправно посещал спектакли гастролеров, и в газетах оперативно, с завидной закономерностью появлялись его колоритные, сделанные несколькими точными штрихами рисунки. Это были портреты актеров, занятых в спектакле.
Художественный руководитель Малого театра, «адъютант его превосходительства» Юрий Соломин скажет ему позднее в поздравительной телеграмме: «Прошло более двадцати лет со времени гастролей нашего театра в Уфе, а ваши рисунки по-прежнему хранят удивительные мгновения актерского проживания в образе, переданные талантливо великолепным художником».
А еще Борис делал зарисовки старого, исчезающего города. В них были приметы прошлых столетий и щемящая грусть от неизбежных утрат.
Многие годы Борис дружил с основателем Башкирского ансамбля народного танца Файзи Адгамовичем Гаскаровым. Дружба эта не была безоблачной. Они ссорились, подолгу не разговаривали друг с другом, тяжело переживая разрыв. Скупились на похвалу и комплименты: к чему эта сентиментальность? Зато теперь, когда Гаскарова нет в живых, Торик выплескивает наружу свое восхищение этим самобытным, незаурядным человеком, «бунтарем, крикуном и поперечником».
Как самую дорогую реликвию хранит он кассету с голосом Гаскарова.
Файзи Адгамович рассказывает, как познакомился с ним: «Первый раз я увидел его в «Фаусте», в роли Мефистофеля. Поинтересовался, кто он, этот молодой бас, и в чьих костюмах выходит на сцену. Оказалось, в придуманных им самим. Он – и художник, и певец. Это показалось мне удивительным, взволновало. Как раз в тот момент я вынашивал замысел «Северных амуров». Мне нужны были костюмы – театральные, удобные в танце и реалистичные вместе с тем. Я предложил ему: «Слушай, Борис, давай попробуем с тобой башкирские танцы одеть!» Он сначала отнесся к этому с недоверием, но потом увлекся.
Вот эти шапки знаменитые с красным конусом. Мы долго спорили о тканях и цвете, пока он не придумал продернуть черные шнуры по красному фону. Я обрадовался. Таких шапок никогда не было, но они прижились, потому что в них есть и стиль, и реалистичность. Костюмы, созданные Борисом Ториком, запечатлены в книгах, фильмах, документах. По ним сейчас учатся».
«Над „Северными амурами“ мы работали целый год, – завершает рассказ своего старшего друга Борис Яковлевич, – искали этот силуэт, который теперь стал хрестоматийным: летящая мужская фигура, увенчанная пышными мехами, с ярким развевающимся зеляном за плечами. Известный художник Мухамед Арсланов возмущался: „Не было у башкир таких шапок с хвостами!“ Но искусство – это не краеведческий музей, главное – создать национальный характер. Ведь неспроста этот условный тип джигита так всем полюбился, что с тех пор кураисты, певцы, не говоря уж о танцорах, выходят на сцену в этих шапках и зелянах, накинутых на плечи, как чапаевская бурка, по-гаскаровски».
«Северные амуры»… Это было интересно, но Торик продолжал петь в опере. В его репертуаре были не только классические партии: Мефистофель и Кончак, Варлаам и Мельник, но и современные – Вожак («Оптимистическая трагедия» Александра Холминова), кардинал Монтанелли («Овод» Антонио Спадавеккиа).
У Бориса была прочная репутация умного певца. Музыкальные критики отмечали, что у него есть «художественная культура и артистический вкус». И вот на взлете он решительно и смело прерывает свою артистическую карьеру. Борису стукнуло тогда 50. Для баса это не возраст. С голосом не было никаких проблем.
Что же случилось? Подтолкнули внешние обстоятельства: в оперном театре наступило безвременье, яркие исполнители оставили сцену, новые не появлялись. Но истинная причина была в другом: художник Торик, до поры до времени мирно сосуществовавший с Ториком артистом, стал выдавливать его, одерживать над ним верх.
Артист – хоть и важная, одушевленная, но все-таки часть спектакля, исполнитель чужой воли, очень зависимый человек.
Совсем другое дело – художник – постановщик. Это воистину демиург. Он создает спектакль, а в нем – целый мир, эпоха, своя философия, настроение.
Будучи певцом, Борис познал вкус этой «отравы», и потому без особых сожалений распрощался со своими сценическими героями.
Торик сделал десятки спектаклей. В театрах музыкальных, драматических, кукольных. Он был главным художником Омского музыкального театра и Башкирского государственного театра оперы и балета. Если это и случайность, то закономерная.

Эскиз к опере А. Бородина «Князь Игорь».
Послушаем, что говорит искусствовед Владимир Чирков: Торику «особенно подвластен музыкальный спектакль. Он его словно «пропевает» с помощью цвета, света, каждый раз организуя сценическую площадку так, как если бы сам играл на ней. Ведь не напрасно в одном из интервью художник признался: «Я слышу музыку в линиях и вижу линию в музыке».
В 1987 году главный режиссер Омского музыкального театра Кирилл Васильев поставил музыкальную драму Евгения Птичкина «Я пришел дать вам волю» (по Шукшину). Сегодня этот спектакль назвали бы мировой премьерой, так как он не имел предшественников, ставился впервые.
«Это была синтетическая в своих средствах постановка, вобравшая в себя и живописный, и пластический талант художника, – рассказывает все тот же Чирков. – Смысловую нагрузку взял на себя установленный по центру сцены станок, превращающийся по ходу действия то в плот, то в шатер, то в храм, то в эшафот. Единство места и действия имело трехчасовое театральное развитие, где воедино слились воли режиссера, дирижера, сценографа, артистов…
Для всех постановщиков, в том числе и для Бориса Торика, это было испытанием на самостоятельность театрального мышления, с чем все участники блистательно справились».
Импрессионистские декорации Торика доставляют радость и неискушенному зрителю. Распахивается занавес, актеры не пропели еще и двух слов, а в зале – аплодисменты.
Аплодисменты художнику, исповедующему и подтверждающему своей практикой традиции великой русской живописи.
…Примечательный факт: первый спектакль уфимского Театра юного зрителя (Национальный молодежный театр) «Идукай и Мурадым», по мотивам башкирского эпоса, шел в декорациях художника, приглашенного из Омска. Легко догадаться, что это был Торик.
Он яростно осуждает беспредел в оперной режиссуре. Когда, по выражению знаменитого тенора Владимира Галузина, «из-за режиссерской дури певец часто ощущает себя спортсменом, идущим на рекорд в тюремных кандалах».
«Классику нельзя трогать, к ней надо относиться очень бережно, – громыхает Торик. – Никто же не переписывает картины в Лувре или Третьяковке, не пририсовывает усы Мадонне.
Есть современные оперы. Вот здесь, пожалуйста, экспериментируйте. Верди, Чайковского оставьте в покое».
Борис Яковлевич выдерживает паузу и снова воодушевляется: «А что они могут, нынешние? Ведь до них был уже Мейерхольд. Разве они талантливей Всеволода Эмильевича? Сомневаюсь. Дай бог им постичь глубины авторского замысла и донести их до зрителя. Архитрудная задача…»