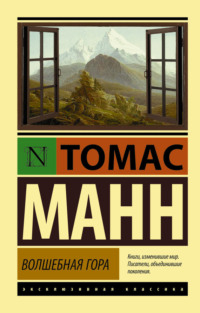Rezensionen zum Buch "Волшебная гора", 258 Bewertungen
Говорят не стоит возвращаться в места, где прошли наше детство и юность. Согласен. Пробовал – не понравилось…
А вот к книгам, прочитанным в молодости, возвращаться нужно обязательно. Особенно в наши дни, когда все упрощается и уплощается. Окружающий мир превращается в Material Design Гугла, язык обедняется (не сказать оскверняется).
Короче происходит то, что было в 20-е годы ХХ века – пролетариат начал рулить в искусстве. Поэтому очень важно сохранить в душе эти «маяки», перечитывать такие книги. Когда закончится этот виток истории, появится потребность в востановлении этического и эстетического уровня. Вот тут-то эти маяки и сработают.
Текст вряд ли можно отнести к лёгким, но так как это роман, а не философский трактат, читается достаточно быстро. Вторая половина романа изобилует интеллектуальными спорами двух героев. Так как смысл данных споров мне практически недоступен читать их было скучно, возможно, из-за пробелов в гуманитарном образовании. В книге очень странный и неожиданный конец.
Больше всего мне запомнились философские рассуждения о времени.
К прочтению рекомендую.
Читатель, как и главный герой романа, Ганс Касторп, думает, что он здесь максимум на 3 недели, но чтение, как и пребывание в санатории, растягивается на куда больший срок.
Первые главы проносятся стремительно, увлекая в незнакомый герметичный мир туберкулёзной лечебницы, а дальше время начинает тянуться нелинейно.
На какой-то главе ты почти физически ощущаешь себя закутанным в верблюжий плед, лежащим в шезлонге на открытом балконе санатория в заснеженных горах, и рассуждающим о бытии.
Для меня самый сильный эпизод – это поездка на лыжах в снежную бурю, где под гнётом «шестиугольной симметрии» происходит переосмысление жизни и смерти. Это в чём-то сродни эпизоду с дубом Андрея Болконского или даже небом Аустерлица.
«Волшебную гору» абсолютно точно нельзя назвать легким чтением, и сложно её рекомендовать, но если захочется погрузиться в мир немецкой философии и подискутировать о душе, времени, свободе и морали, то вам в «Берггоф».
Книга вызвала непередаваемые ощущения. Актуальность темы и по сей день. Только теперь люди больны уже не туберкулезом, а головой. Но голову заменяет интернет. И также всюду все подчиняется духу дьяволу отупения.
vk_154038299 На то она и классика, стоьы быть актуальной всегда ?
Томас Манн – глубокий автор. Временами хотелось оставить на память цитатами всю яркость написанных им картин. Но теперешняя суета жизни не даёт погрузиться в глубину философских споров и порой пустобрехтства… а потому читалось долго.... в целом, да, книга даёт пищу для ума.
Совсем не лёгкое чтиво, под настроение. Для тех, кто любит пофилософствовать и покопаться в отношениях. Поставила в очередь книг для перечитывания.
Несколько лет назад мне посчастливилось увидеть записи лекций Юлии Каминской по истории зарубежной литературы XX века. Лекции были прекрасны. Каминская так «вкусно» подавала материал, что мне захотелось прочитать все книги, о которых она рассказывала. Из этих лекций я и узнала о «Волшебной горе» Томаса Манна. Каминская поведала (надеюсь, запомнила правильно и не перевру информацию) о том, что:
- в романе условно выделяются 2 уровня – пространство равнины (уровень телесности, «земных» забот и рутин, энергии жизни) и пространство горы (уровень духовности, интеллектуального и личностного развития, постоянная близость смерти);
- все герои романа – не просто люди, а типажи, собирательные образы, несущие свой месседж и вносящие вклад в становление индивидуальности главного героя;
- если кто-то из героев эмоционально отзывается в читателе, стоит подумать, какое скрытое послание он несет читающему;
- на протяжении всего романа автор прячет для нас в тексте ключики к пониманию повествования и собственной позиции.
Это, конечно, только капля в море информации, полученной от замечательного лектора. Не стоит и говорить, что мои ожидания от чтения этой книги были запредельно высоки.
«Волшебная гора» оказалась для меня волшебным подарком, волшебным чтением. Может потому, что я была подготовлена к ее восприятию. Может потому, что это и правда произведение невероятной глубины и красоты.
Роман захватил меня с первых строк. Были интересны и сюжет, и герои. Молодой человек Ганс едет навестить больного брата в туберкулезном санатории и, планируя провести там 3,5 недели, остается на целых 7 лет. В течение этого времени, среди неординарного общества обитателей санатория, герой проходит сложный путь поиска своего предназначения, своей истины.
Отдельно стоит сказать о философской составляющей книги – она просто «фонтанирует» интеллектуальными размышлениями и баталиями. Несмотря на то, что их содержание не всегда простое, читать их очень увлекательно. Тем более, что поданы они чаще всего с нескольких ракурсов – через изречение оратора и через отношение к сказанному других героев.
Очень понравился язык книги. Он очень красивый, с интересной лексикой. Повествование метафорично, наполнено символикой, иносказаниями и интертекстом. Просто одно удовольствие.
Прекрасно нарисованы горные пейзажи, погодные явления: мне даже казалось, что я ощущала дрожащий горный воздух, морозную свежесть ветерка, робкое тепло лучиков солнца, волшебство летнего снега...
Таким образом, мои ожидания с лихвой оправдались. Могу сказать, что для меня «Волшебная гора» - одна из лучших книг, которые я читала, по масштабу сопоставимая с любимыми произведениями русской классики.
Эту книгу посоветовала писатель (в тексте своей книги), которого я уважаю. Я так ищу чтение – по рекомендации. Сначала после 15 страниц решила – не буду. Да ещё 2 тома. Неспешно всё так происходит, обстоятельно излагается. Потом всё же стала продолжать – и теперь читаю 2 том, оторваться невозможно. Да, лучше скачать легальную копию, в доступных не воспроизводятся сноски, а в них там целая жизнь!
И снова времечко бежит, Его теряем нерадиво, А жизнь течёт неторопливо, Весьма похожая на жизнь... Юрий Лоза, "Резиновые дни"
Всё время, пока я читал "Волшебную гору", мне вспоминалась стародавняя притча о шести слепых мудрецах, которые решили узнать, на что похож слон. Наверное, ее все знают, но на всякий случай уточню: один ощупал бок слона и счел, что слон похож на стену, другой подержал в руках хобот и решил, что слон похож на змею, третьему достался хвост, и он сделал вывод, что слон похож на веревку, и так далее. Слепые спорили до хрипоты целый день, но так и не пришли к согласию.
"Волшебная гора" - это как раз такой слон. Томас Манн велик, многолик, глубок и необъятен, и речь отнюдь не о пресловутом количестве авторских листов, хотя этот роман - произведение весьма объемистое :)
"Волшебная гора" - виртуозное изображение мира в миниатюре. Планеты, суженной до размеров небольшого санатория в Альпах. Универсума, существенно деформированного самой средой пребывания и вместе с тем сохранившего все черты и свойства реального мира. Это удивительно глубокий философский роман со множеством причудливых переплетений и напластований, в котором не то что любая из сюжетных линий, но и лирические отступления, и даже отдельные реплики могли бы стать основой для самостоятельного произведения. Конечно, не столь объемного, но тем не менее.
Из-за этой многоплановости мне - лично для себя - было довольно сложно сформулировать, о чем этот роман. В голове прозвучал внутренний диалог - сколь краткий, столь же и невразумительный:
- О чем "Волшебная гора"? Ну, если в двух словах? - О жизни. - Хм... Ну, допустим. А жизнь - она о чем? - .........................................
Подобно тем слепцам, которые экспериментальным путем выясняли, на что же похож слон, я нащупал в "Волшебной горе" несколько моментов, которые в наибольшей степени затронули меня лично. Весьма вероятно, что другие читатели этого произведения сочли наиболее значимыми совершенно другие вопросы и проблемы - что ж, тем и прекрасен Томас Манн, что каждый может найти что-то свое, созвучное его душе :) Итак, для меня "Волшебная гора" - это прежде всего роман
о том, что "ко всему-то подлец-человек привыкает". В какие условия ни помести людей, они непременно найдут способ к ним приспособиться. Пусть даже эти условия будут бесконечно далеки от обычной нормальной жизни, а сам механизм приспособления будет носить несомненные черты патологической адаптации. Ибо патологическая адаптация - это не только алкоголизм, наркомания и все прочие "-измы" и "-мании", настигающие род человеческий. Это еще и сдвиги мировосприятия, вызывающие сильнейшее, вплоть до идиосинкразии, изумление у людей непосвященных. Иногда эти изменения обратимы, иногда - нет. Манн описывает быт и нравы обитателей санатория с мягкой иронией. Иногда изображаемые им картины становятся уж совсем карикатурами, но даже в этих случаях преобладает не едкий сарказм, а снисходительность мудреца к неразумным, нестойким, неопытным. Из персонажей романа этот трезвый взгляд более всего присущ Сеттембрини и в какой-то степени - его вечному оппоненту Нафте, но и они оба в немалой степени карикатурны. Обитатели санатория - небольшого замкнутого мирка, где есть тщательный уход и все необходимое для поддержания жизнедеятельности, - фактически превращаются в особую касту, решительно отличающуюся от внешнего мира. Поэтому-то в романе так часто повторяется рефрен "там внизу, на равнине", как бы проводящий резкую границу между больными, которые на основании одной лишь своей болезни ощущают свою причастность к некоему таинству и высшему знанию, и всеми остальными - "им, гагарам, недоступно" :) Поэтому-то дядя главного героя романа Ганса Касторпа, приехавший навестить племянника, чувствует себя не в своей тарелке при соприкосновении с этим мирком, - он совершенно не в состоянии понять, что случилось с племянником, которого он знал как рассудительного и трезвомыслящего молодого человека абсолютно от мира сего, и что вообще происходит в этом санатории. Недолгий визит дяди заканчивается поспешным и внезапным бегством, и его опасения можно понять - а вдруг это заразно? :) А оно и впрямь заразно, только для этого нужно больше времени. Кстати, о времени: санаторий кардинально меняет его восприятие. Три недели, на которые Ганс Касторп приехал навестить своего кузена Иоахима Цимсена, воспринимаются самим Иоахимом и другими местными обитателями как один день - это вообще не срок, это ничто. На периоды длительностью меньше шести месяцев здесь не принято обращать внимания, более или менее значимым сроком считается даже не один год, а несколько лет. А ведь это - месяцы и годы полноценной, а не суррогатной ЖИЗНИ... И для полной наглядности - предостерегающая цитата из беседы либерального интеллигента Лодовико Сеттембрини, носителя идеалов прогресса и гуманистических ценностей, с Гансом Касторпом:
Я мог бы рассказать о сыне и супруге, прожившем здесь одиннадцать месяцев, мы познакомились с ним. Он был, пожалуй, немного старше вас, да, постарше. Его отпустили как выздоровевшего, для пробы, и он вернулся домой, в объятия близких; там были не дяди, там были мать и жена; и вот он лежал целыми днями с градусником во рту и ни о чем другом знать не хотел. "Вы этого не понимаете, - говорил он. - Надо пожить там наверху, тогда узнаешь, что именно нужно. А у вас тут внизу нет основных понятий". Кончилось тем, что мать заявила: "Возвращайся наверх. Тут тебе больше делать нечего". И он сюда вернулся. Возвратился "на родину", - вы же знаете, те, кто здесь пожил, называют эти места своей "родиной". С молодой женой они стали совсем чужими, у нее, видите ли, не было "основных понятий", и ей пришлось от него отказаться. Она увидела, что "на родине" он найдет себе подругу с одинаковыми "основными понятиями" и останется там навсегда.
Сказывается и еще один фактор - дурацкий стереотип, который, однако же, прочно укоренился в общественном сознании. Озвучивает его наш главный герой в разговоре с тем же Сеттембрини:
...не подходят друг к другу болезнь и глупость, несовместимы они! Мы не привыкли представлять их вместе! Принято считать, что глупый человек должен быть здоровым и заурядным, а болезнь делает человека утонченным, умным, особенным. Такова общепринятая точка зрения.
Сеттембрини - умный, ироничный, трезвомыслящий (хотя и несколько излишне восторженный) эрудит - довольно жестко осаживает Ганса Касторпа. Однако расхожее мнение не становится от этого менее расхожим. К тому же оно очень удобно - обывателю, в глубине души сознающему, что он не наделен никакими особенными достоинствами, благодаря такой концепции становится как-то легче и проще уважать себя и возвыситься над теми, живущими "внизу, на равнине". Слаб человек...
о том, что где бы человек ни оказался, иерархизм и кастовость сознания останутся ему имманентны во веки веков, аминь.
Манн очень психологически точно рисует атмосферу, в которой формируются свои сословия и "клубы по интересам", патриции и плебеи, аристократы и дегенераты. Естественно, на характер этой новоиспеченной социальной стратификации накладывает отпечаток место действия и те обстоятельства, которые и привели местных обитателей в этот маленький альпийский санаторий.
Здесь утрачивают актуальность все различия, которые имели место между постояльцами санатория "там внизу, на равнине", сиречь в их прежней жизни. Социальный статус, имущественное положение, род занятий, возраст, уровень образования и интеллекта, национальная принадлежность - всё это и многое другое отходит на второй план. А на первый выходит ее величество Болезнь - отношение общества к тому или иному индивиду определяется прежде всего тем, чем именно и насколько тяжело он болен. Выстраивается четкая иерархия, в которой каждому отводится место в неписаном, но общепринятом табеле о рангах, и поведение большинства по отношению к тому или иному человеку диктуется именно характером и степенью тяжести его заболевания:
На легко больных здесь не очень-то обращают внимание, - он в этом убедился из многих разговоров. О них отзывались с презрением, на них смотрели свысока, ибо здесь были приняты иные масштабы, - и смотрели свысока не только те, кто были в чине тяжело и очень тяжело больных, но и те, кого болезнь затронула лишь слегка; правда, они этим как бы выражали пренебрежение к самим себе, зато, подчиняясь здешним масштабам, становились на защиту более высоких форм самоуважения. Черта вполне человеческая. - Ах, этот! - говорили они друг о друге. - Да у него, собственно говоря, ничего нет, он, пожалуй, и права не имеет тут находиться: даже ни одной каверны не найдено... - Таков был дух, царивший в "Берггофе", - своего рода аристократизм, который Ганс Касторп приветствовал из врожденного преклонения перед всяким законом и порядком. Таковы были местные нравы.
Сложно не провести аналогию между бытом постояльцев санатория и, например, нравами и обычаями тюрем. И там, и там люди вынужденно отрезаны от внешнего мира, лишены многих знаков различия и возможностей самовыражения. И что же они делают? Правильно, изобретают собственные. И такое изобретение выполняет две важнейшие функции: во-первых, оно позволяет людям воссоздать некое подобие привычного мира (они ведь не родились в "Берггофе" и не свалились в него с Луны, а приехали туда во вполне сознательном возрасте), а во-вторых, дает ощущение полноты жизни. Не саму полноту, но как минимум иллюзию таковой.
о том, что события в романе происходят на рубеже первого и второго десятилетий ХХ века, и до первой мировой войны - рукой подать. Как я уже упомянул в начале текста, санаторий "Берггоф" - точное изображение мира (ну, пусть главным образом Европы) в миниатюре. А там происходит очень много чего. Бурное техническое развитие и напрямую связанный с ним рост промышленного производства, научные открытия и изобретения, колониальная экспансия и территориальные притязания, поиски рынков сбыта и в конечном счете - потребность одних держав в переделе мира, а других - в его недопущении. И, естественно, постоянно нарастающее напряжение. Мировые события находят пародийное, словно в кривом зеркале, отражение в жизни обитателей "Берггофа". Эмоции бурлят и ищут выхода; пациенты очертя голову бросаются то в одно, то в другое занятие. Они то самозабвенно участвуют в кутежах, организованных колоритным кофейным плантатором Пепперкорном; то с остервенением слушают пластинки вне зависимости от того, любят ли они музыку; то с жадностью дикарей набрасываются на фотографирование и проявку снимков; то устраивают спиритические сеансы; то раскладывают пасьянсы; то предаются еще какой-нибудь блажи. И в конечном счете вся эта напряженность выливается в ссоры, скандалы и даже драки, вспыхивающие буквально на ровном месте, по самому ничтожному поводу и даже без такового. Читаешь описание драки между антисемитски настроенным коммерсантом Видеманом и еще одним коммерсантом по фамилии Зонненштейн - и поневоле вспоминаешь фразу о том, что история повторяется дважды: один раз в виде трагедии, другой - в виде фарса. И этот фарс, учиненный постояльцами "Берггофа", был карикатурным отображением трагических процессов, происходивших "там внизу, на равнине". У Сальвадора Дали есть известное произведение "Мягкая конструкция с вареными бобами. Предчувствие гражданской войны". Хочется сказать, что заключительные главы "Волшебной горы" - полноценный литературный аналог этой картины.
А затем - война. И мы видим Ганса Касторпа - беззлобного, уравновешенного, не наделенного особыми способностями, но неглупого и склонного к размышлениям человека, - бегущим в атаку с винтовкой в руках под ураганным артиллерийским огнем противника. И что будет дальше с ним и с тысячами ему подобных, решительно неизвестно. "А из этого всемирного пира смерти, из грозного пожарища войны, родится ли из них когда-нибудь любовь?.."
А чтобы не заканчивать на минорной ноте, покажу-ка я картинку. Вот, пожалуйста - те самые слепые мудрецы и слон :)
krokodilych, Все верно вы сказали, "о том, что "ко всему-то подлец-человек привыкает". В какие условия ни помести людей, они непременно найдут способ к ним приспособиться. Пусть даже эти условия будут бесконечно далеки от обычной нормальной жизни".
Есть такой дядька - Клаус Шваб, основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе.
До тех пор, как в этой локации стал собираться вселенский гадюшник, мнящий себя мозгом мира, там жили обычные туберкулезники. Вернее они там медленно умирали, о чем есть чудный роман Манна "Волшебная гора". Так вот. Клаус Шваб, глава давоса (уже не туберкулезного, но Апокалиптического) написал книгу: «COVID-19: Великая Перезагрузка». В книге декларируется отмена частной собственности. Предполагается, что у человека не будет ничего, кроме цифрового счета, привязанного к социальному рейтингу.
Это просто отличная книга, такие эмоции. Книга рассказывает о сложных взаимоотношениях этих молодых людей. ЧИТАЙТЕ, РЕКОМЕНДУЮ. Совет : не смотрите на комментарии , это только отбивает желание, у каждого свои вкусы.