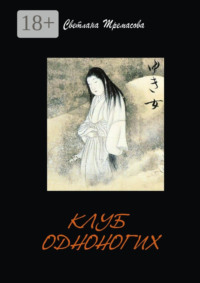Buch lesen: "Клуб одноногих"
© Светлана Тремасова, 2015
© Андрей Алёшкин, дизайн обложки, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Лили в облаках
Глава первая
О нашем невропатологе и И. В.
Собаки бежали, хотели загнать петуха. Хотели тихо, поскольку посреди улицы – хозяева побьют, а то и прибьют. Хотели, будто по-дружески зовут поговорить на двор заброшенного дома, а там уже ждали двое – схватили бы за горло и тихонько перекусили. И петух уже пошел, и во двор свернул сам, но увидел тех, двух, – раскудахтался, захлопал, подлетел по забору, сделал круг и, вытянув худую шею, ускакал, лишь успели его ущипнуть с досады. «А, дохлый куренок, пускай отъедается», – отдуваясь от пуха, бросил искоса взгляд в его сторону пес.
Лили шла к невропатологу. Она ходила к нему уже который день и не могла попасть на прием. Каждый день в очереди к нему стоят практически одни и те же люди и не могут попасть на прием. Каждый раз Лили видит здесь старуху, которая сидит, свесив ноги и уложив пирамидкой складки своего тела, будто придерживая его руками, чтобы не уплыло вперед, полудремлет, изредка приподнимая наплывы век в мелких папилломах, когда вокруг слышно движение. Лили нравится эта старуха, потому что она похожа на персонаж какого-то мультфильма – это Лили немножко радует и успокаивает…
Лили стояла у стены возле двери, и невропатолог, Сизиф Петрович, увидел ее и узнал, и позвал в кабинет без очереди. Но Лили вновь впала в отчаяние, и вместо того, чтобы сказать все как есть, пока он ее слушает, она начала говорить разными словами одно и то же: ей нужна работа… «Хорошо, – говорит он, – посажу тебя на телефон, будешь отвечать на звонки, – и бросает ей на руки квадратный телефонный аппарат с множеством кнопок. – С телефоном-то ты можешь обращаться?» Лили удивленно разглядывает телефон, будто бы он какой-то особенный, но ничего отличительного не находит и думает, что это, наверное, у нее паника, и поэтому она не может найти отличие, но отвечает «да», а про себя пытается выйти из ступора, успокоиться, чтобы понять загадку телефона. Кладет отвалившуюся трубку на место… «Приходи завтра, с утра…» – врач отбирает телефон, и Лили уходит. При выходе из поликлиники оцепенение оставляет ее: «Ну как же так жить, когда элементарно не можешь толком ничего сказать?!..», и она, выйдя уже на улицу, сжав кулаки, шепотом кричит: «Ненавижу!»
Трудно сказать, кого Лили ненавидит в такие моменты, скорее всего – никого. Это просто слово для выброса скопившегося напряжения. Есть люди реальные – до кончиков пальцев на руках и ногах они вещественны, как существительное, которое можно потрогать, и не признают и не понимают иного, того, чего потрогать и применить к чему-то нельзя. Даже руки у них такие – притягивают к себе все предметное. Как правило, они твердо стоят на ногах, во всех смыслах, и, как говорится, умеют жить в этом вещественном мире. И люди нереальные – полная им противоположность, – не умеющие удержать предметы в тонких бегающих пальцах, вместо мозгов в голове у них вселенная, вместо сердца – душа, а вместо земли под ногами – вечность. Непонимание между этими двумя категориями людей неизбежно, как и столкновения, и при этом чаще всего приходится говорить своему антиподу только то, что он понимает, а для тебя, увы, не самое главное. И вот тогда ты ненавидишь не его, не себя, а неразрешимую ситуацию столкновения, которая, собственно, существует сама по себе, и совершенно безразлично, в какой цвет ее окрашивает тот или иной человек – положительный или отрицательный. Так слово «ненавижу!» становится мыльным пузырем примирения и оставляет всех на своих местах, не допуская два совершенно несовместимых элемента до зубовного скрежета сотрудничества.
Недавно сынуля Лили пришел из второго класса школы уверенный в том, что существительное – это только то, что можно потрогать. И на все попытки Лили расширить спектр возможностей этой части речи он упирался одним тяжелым доводом: «Учительница старше тебя, она лучше знает!» А как же «вечность», «душа», «красота», «вселенная»?.. Но не об этом Лили хочет сказать невропатологу…
Рабочее утро у Сизифа Петровича начинается после утренней церковной службы, а заканчивается перед вечерней. Местные жители прозвали его «врач от молебна до молебна». В церковь он не ходит, но кто-то сказал ему, или сам он придумал, что во время службы работать грех, и теперь он свято соблюдает это правило, соответственно, и в дни православных праздников на работу не выходит. Невролог в нашем районе только один по штату… И не об этом…
На следующий день Лили хотела прийти в поликлинику пораньше, до начала приема, но у сынули с утра разболелся живот, и только они вышли за порог, как им пришлось ненадолго вернуться…
Звонок прозвенел, когда сынуля бежал вверх по широкой Х-образной лестнице и уже преодолел один пролет. Лили помахала ему рукой, пока он не скрылся за дверью коридора второго этажа, и задержалась, пытаясь рассмотреть цифры электронных часов на стене. Но через минуту сынуля вернулся с портфелем и в слезах – его не пустили в класс. Лили поднялась вместе с ним. В коридоре возле класса Ирина Владимировна отчитывала еще троих опоздавших, и прежде чем Лили смогла что-то сказать, Ирина Владимировна уже принялась сетовать: «неужели нельзя…», обращаясь именно к ней – и Лили тут же уменьшилась до ученика второго класса и поняла, что права голоса не имеет. Девочка, стоявшая у закрытой двери класса, с непроницаемым видом смотрела в окно, мальчишки хихикали и пытались наступить друг другу на ногу, сынуля хлюпал, уткнувшись в плащ Лили. Лицо Ирины Владимировны краснело и прыгало, как кипящий чайник, если он мог бы краснеть и прыгать. Лили молчала. Наконец И. В. сказала: «…чтобы больше этого не повторялось!» И пока Лили снова выросла и успела ответить «хорошо» в спину И. В., та уже загоняла детей в класс и, наверное, не услышала, захлопнула дверь. Тут же утихло все, как ничего и не было, только на синем плаще Лили осталось большое темное пятно.
Лили опоздала и снова встала у двери кабинета, но потом все же тихонько вошла, беззвучно поздоровалась и осталась стоять возле двери. В кабинете сидела ее любимая старушка – сидела так же, слегка подремывая. «Ты думаешь, завтра?» – мурлыча, говорил невропатолог, проводя короткими толстыми пальцами по халату медсестры – казалось, от них должен был остаться жирный желтый след. Сестра сжалась, как слизняк, и, игриво сощурив глазки, облизнулась большими ярко накрашенными губами. «Ну что, – продолжил он, не обращая на Лили внимания, – старушка-то неадекватна?» – и начал что-то широко писать на бледном листе раскрытой карточки. «Ты бы меня сначала хоть чего-нибудь спросил, а потом диагнозы ставил…» – чуть приоткрыв глаза, отчетливо протрубила старуха. «А что тебя спрашивать? Три года в очереди, на одном и том же месте, и ни разу не возмутилась, что лезут без очереди, что меня на работе нет, или еще чем – это ненормально, бабушка! Хе-хе-хе!» – захлопнул карточку и двинул ее по столу в сторону старухи. «А ты убирайся! – закричал он, вдруг обернувшись к Лили. – Я тебя без очереди, на работу беру, а ты: «Ненавижу! Ненавижу!» И он начинает писать на бумажном противно-розовом квадратике, приговаривая: «Все по три раза в день… как написал… и спи побольше… Все! – срывает он листок и протягивает Лили. – Убирайся! Иди, лечись!»
Послали Лили к какой-то женщине: «…она лечит и уроки дает тем, у кого способности видит… сходи…»
Дворник у дома только лестницу вымел: «Пожалте…» Несколько ступеней, дверь, в коридоре за стойкой женщина сидела, талоны выдавала.
– Мне бы талончик…
Она выбрала из лежавших перед ней на столе самый пристойный – на них девицы были нарисованы, как из кабаре. И появились у Лили сомнения насчет этого заведения. Уже отойдя к двери, Лили талончик разглядела: на нем число написано, к такому-то часу, а внизу: такого-то числа – «удираем». Так и написано. «Позвольте…» – думает Лили и возвращается. Тут как раз уроки закончились, выходят девушки из классов. Лили против них продвигается, выясняет, как целительницу зовут. Отвечают: «Наталья Андреевна». Лили идет к ней в кабинет.
– Наталья Андреевна, примите меня.
– Возьмите талончик, – поет та в ответ, и волосы белокурые завитые у зеркала поправляет, – по талону приходите…
Лили было назад, но опять к ней:
– Ну я же…
Тут эта Наталья взяла Лили за плечи и будто бы все сразу узнала, бросила кому-то за дверь:
– Я задержусь, здесь третья степень, – и дверь закрыла. Потом остались они одни, и Наталья Андреевна заулыбалась: – Да не пугайтесь, вторая…
И где-то на лестнице посыпали Лили сначала крупой, поливали два раза отварами из ушатов. Лили во всей одежде – только воротник, говорят, держи, и спрашивают – легче ли? «Легче», – говорит Лили, а понять не может. Девицы – ученицы, выпечкой своей угощали, но есть не хотелось даже – сыро было очень.
Наконец отпустили. Но Лили опять-таки к ней:
– А вот если вы все насквозь видите, может, скажете, чем же мне по жизни заниматься должно, может, я вовсе не тем занимаюсь, чем следует? – с тайной мыслью, что, может, она, Лили, к ней в ученики годится…
А та берет Лили и заводит в комнату, а в комнате люди деревянные, живые и улыбаются: что, мол, попался, глупый ты человек. «Какие вы все красивые!» – вырывается у Лили, а они и впрямь красивы – живые, гладкие, деревянные! Но вдруг такими страшными кажутся. И Наталья эта что-то говорит с ними, а Лили уже один приобнял, да так крепко, что у нее мелькнуло: так и сломают они меня…
Так они и простудились оба – сперва Лили, потом сынуля за ней. «И из дома не вылезать вообще неделю», – сказала участковый врач, натараторила названия лекарств и ускакала, как сорока. Когда сынуля один болеет, Лили обычно в школу ходит за уроками, а теперь оба – на улицу ни ногой. Телефона у нас нет, ребятишки к больному сынуле не ходят – полностью мы, в общем, неделю играем в почти необитаемый остров. Дичи удалось мне, как самому здоровому, «подстрелить» в ближайшем магазине. Из свеклы навыжимали капли в нос, соседка Валентина, как местный «медведь», дала меда для редьки, а воевали мы с жуками-пиратами, которые напали на наши запасы фасоли, – подсушивали их в духовке.
Тогда учительница, Ирина Владимировна, сама принесла домашнее задание сынуле, оторванному от земли. С учительницей сынули Лили было очень сложно найти общий язык: Лили ее слушает и кивает, а Ирина Владимировна почему-то всегда начинает злиться, от чего раздувается в ярко-розовый воздушный шарик со стрижкой в желтый выкрашенных волос – и не успевает Лили и рта раскрыть… как она лопается и уходит, безнадежно махнув рукой. Поэтому вот уже второй год им толком и не удается поговорить.
Теперь Ирина Владимировна увидела всю замысловатую изнанку нашего мирового пространства, в котором, на первый взгляд, наверное, действительно, как она выразилась, нет никакого порядка. «Но если вы, к примеру, не зная ничего об анатомии, допустим, человека, случайно увидите вскрытый труп, вам, я думаю, тоже покажется, что этот человек понапичкан черт знает чем…» «А это что?» – перебила она меня (кажется, она опять нервничала или торопилась): на каждой вещи в комнате имелась этикетка с их названиями на двух языках. «Это такой метод изучения языков…» «И что это за странный язык?» – снова перебивает она, видимо, прочитав ближайшие слова. «Мордовский. Дело в том, что у сынули есть друг, который сидит в мордовских лагерях». «Да!» – хрипло воскликнул сынуля и принялся не спеша объяснять, – спешить ему мешало еще больное горло, и поэтому мне пришлось ему помогать, и вместе мы объяснили И. В., что на нашей улице у бабушки Юли жил один африканец Серафим, который приехал сюда в университете учиться, а у бабушки Юли комнату снимал. Потом у бабушки Юли кто-то украл сахар, а другого нашего соседа, Славку Огурцова, убили, когда он шел в туалет, потому что на поясе у него были зашиты деньги – прямо миллионы! А Симы в это время в городе не было, он уезжал как раз на какой-то концерт всех африканцев России, а когда вернулся, полиция сказала, что это он украл сахар и Славку убил, и посадили его в лагерь, в Мордовии. Теперь надо выучить мордовский язык, поехать туда и сказать там всем, что Серафим не виноват, хотя он и из Африки приехал…
Тут сынуля глубоко и печально вздохнул и хрипло вывел: «Он мне апельсины приносил, много – целую авоську апельсинов! Знаете, что такое авоська? Это сумка такая дырявая, как рыбацкая сеть, дядя Сима всегда в ней апельсины носил. Из авоськи они всегда вкуснее, чем из обычной сумки…»
Ирина Владимировна слушала нас очень напряженно. Еще как раз сегодня из коконов, которые мы с сынулей как-то подобрали во время прогулок, вылупились две первые бабочки, и одна бабочка почему-то все время кружилась возле уже очень розового носа Ирины Владимировны и, кажется, норовила на него сесть, так что не давала учительнице сосредоточиться даже для того, чтобы присесть на диван. «А вы вообще кто? Чем вы вообще занимаетесь?» – вновь махнув рукой в воздухе, выпалила она, едва сынуля умолк, и устремила на меня изо всех сил строгий, но в глубине боязливый взгляд.
«Вы знаете, – слегка задумываюсь я, чтобы яснее выразить свою мысль. – Мы, то есть все человечество, как бы находимся, грубо говоря, в некоем предбаннике. В основном, здесь все спят и ждут, и лишь немногие ищут дверь, которая может быть огромной или едва заметной, может быть в полу, потолке, ребре и углу. Они ищут везде: шарят по стенам и углам, некоторые ищут в себе – они застывают с закрытыми глазами и пытаются мысленно раздвинуть преграду. Которую создали сами. А я хочу поглотить этот мир и остаться один на один с Вечностью, с которой мы, по сути, близнецы…»
Ирина Владимировна наверняка бы снова тотчас бы лопнула, как, по рассказам Лили, она обычно делает, если бы не вышла Лили, которая все это время тихонько готовила в кухонном закутке липовый отвар. Лили вышла совершенно неожиданно для Ирины Владимировны и, может, в том числе и поэтому приобрела дар внушительной убедительности. Она сказала, чтобы Ирина Владимировна не переживала, что на самом деле я совсем обычный всю жизнь был пожарник, и только масса книг, прочитанных мною в свободное от работы время и после того, как в силу своего нездоровья перестал работать, к сожалению, нередко дает о себе знать. Что вот и у нее – у Лили – филологический, а у вас, Ирины Владимировны, – педагогический, а кто-то еще – биолог, другой – актер, а третий – плотник, – у каждого свой диагноз имеется. И – что поделать – должен же, наконец, кто-то и этим заниматься – выход искать из всего этого диагностического засилья.
И еще Лили сразу догадалась, как отвлечь бабочек от носа Ирины Владимировны – по ходу своих объяснений она развела в воде ложку цветочного меда, налила это в блюдце и, похватав бабочек за крылышки, потыкала их, почти как слепых кутят, в сладкую водичку, и бабочки поняли, что пора обедать. «А вот космический путешественник, – продолжала находчивая Лили, – у нас на самом деле сынуля, потому что в данный момент мы как раз собирались делать ему для будущей ёлки костюм инопланетянина. Поэтому у нас и немного такой беспорядок».
Учительница сказала, что все понятно, и ушла, от липового чая отказалась и даже задание домашнее не оставила. Забыла, наверное.
Вот такая она, Лили. Она все может, когда дело касается ее будто бы косвенно – она найдет нужные слова, она тут же вспомнит и сделает все, что возможно, и голос ее не будет дрожать, и руки будут верны, и чувства, и разум, и интуиция бывают в такие моменты в ней в полном равновесии. Но когда удар направляется на нее прямиком, она тут же скажет: «Если надо кого-то убить, то убейте меня», потому что чего-то не расслышит или не поймет, а если и поймет, то не так, как нужно, глаза ее вспыхнут удивлением-непониманием-страхом, голос будет выдавать отдельные слова, вырванные из мешанины противоречивых мыслей, как будто в голове ее в это время сталкиваются трое-четверо бесплотных мыслящих существ и борются за первенство – вернее, даже не борются, а бьются друг о друга, не понимая, кто же из них требуется сию минуту на выход, а выход один, а вызваны они все, – вот и выплескиваются от них наружу только отдельные слова. Вот такая получается сумятица в голове Лили. В эти минуты, наблюдая за этакой слабостью, Лили понимает, что лучше бы ничего не говорить и вообще уйти, на что несчастные извилины отвечают новым воплощением – мол, никак нельзя уходить в данный момент от ответственности, мол, и так уже не в первый раз от тебя требуют этого ответа, – и в драку влезает пятое-шестое бесплотное существо… Тут Лили не выдерживает и ревёт, просто ревёт, обрушивая ливень, гром и молнии на этих изодранных уже, бесплотных дерущихся существ, не могущих ни остановиться, ни выйти. Без этого рёва никак нельзя – иначе их не остановить, иначе к ним прибавятся шестое и седьмое, и… даже думать о включении в драку каждого нового существа тяжело, потому что в итоге, возможно, даже уже на восьмом, эта распря может разорвать какие-нибудь соединения в голове Лили, и там воцарится пустота, которая так пугает людей, зияя из глаз умалишенных…
Глава вторая
О снах Лили и недремлющей И. В.
Когда Лили поутру пытается рассказать маме свой сон, та начинает злиться и ворчать, что все это ерунда, и зачем вообще эти сны запоминать, и тем более думать о них, и так далее. Сама она верит только снам о покойниках: приснился – надо помянуть, если что попросил – надо кому-то это дать, если приснился голый – надо купить одежду и кому-то подарить. Все! Остальное – ерунда!
Лили кажется, что чем более несчастлив человек в жизни, тем более счастлив во сне. Чем однообразнее, чем скуднее его дни, тем ярче и насыщенней сновидения. Она говорит, что к снам привыкаешь, как ребенок к сказке на ночь: пару дней без них потерпишь, потом начинаешь тосковать, потом начинается бессонница, и жизнь тебе не мила. Ей виднее…
Лили почти всегда помнит свои сны. И вот она рассказывает: «Похоже, мы приехали с подружками отдыхать в какой-то приморский городок, сняли в небольшом коттедже одну большую комнату на всех. И вот я иду, все залито солнцем, и я, вприпрыжку, в легком сарафанчике… а за мной, поодаль, какой-то молодой человек. И я захожу в этот самый коттедж и напеваю: „Окончен бой, зачах огонь, и не осталось ничего, а мы живем…“ А этот молодой человек уже впереди меня, открывает дверь в свою комнату и отвечает: „…а нам с тобою повезло назло!“ И я захожу в свой номер, приподнятая, радостная: вставайте, девчонки, идемте гулять! А девчонки сидят сонные, в бигудях, в пижамах, – смешные…»
Мы молчим. Лили приятно от возможности еще и еще вспоминать угасающий момент ощущения легкого счастья. Но от каждого прикосновения к нему его свежесть неизбежно подтаивает, сон становится все тусклее.
«Уже много лет, – говорит Лили печально, – только сны изредка напоминают мне, кто, какая я есть на самом деле… уже много лет я обманываю себя и всех одним только названием, воплощение которого должно быть совершенно другим. Я практически похожа на алкоголичку, от которой она сама и все окружающие хотят только отвернуться, потому что она врет и себе, и им, выдавая убогую отталкивающую маску за свое настоящее лицо. Я боюсь протянуть руку, я боюсь сказать: «Это Я»…
«Раз в жизни все так невозможно, – однажды сказала Лили, – я буду спать! Во сне я живу…»
И покатились сны чередой, каждый – отдельная история. С продолжениями, переплетениями, с повторением одной неизменной героини в центре потустороннего мироздания, единственной среди вечности – Лили… Лили спит, Лили живет снами, и чем дальше, тем чаще, соприкасаясь с грубой своей навязчивой вещественностью действительностью, Лили выставляет вперед, словно щит, радужную метафору сна и проживает день как необходимое преддверие ночи, как, может, надо проживать и жизнь – как необходимое преддверие вечности…
И Лили временами, когда ей удавалось отгородиться, преображалась. В ней начинала появляться легкость, ее взгляд потихоньку из испуганного становился удивленно-мечтательным, минуты спокойствия сглаживали заострившиеся черты ее лица и укореняющиеся на нем тревожные морщинки. Ведь, несмотря ни на что, Лили всегда знала, что на самом деле она может все, а значит, она должна быть прямой, уверенно, спокойно и невозмутимо глядящей вперед, хотя никогда в жизни ей не удавалось такою быть. Только бы избавиться от этой роковой слабости, которая, как глухой зажим, перекрывала основное русло, заставляя скрючиваться, судорожно корчиться и утопать в глубоких омутах собственной рефлексии… И сон становился лекарством, которое обволакивало Лили на ночь и тающим постепенно облаком плыло за нею по дню: утром в ней искрились воспоминания ночных событий, днем она вновь и вновь вызывала в воображении самые яркие картины, а к вечеру остатки ароматной пыльцы сна теряли свой вкус, но уже близилась новая ночь…
Лили снились китайцы в маленьких людных домах и сумасшедшая торговка возле американского Белого дома. Снился запах войны и ножи приближающихся ассирийских колесниц, снились космические каменные глыбы и сотворение нового мира, снились принцы, канувшие в Лету или превращенные в старых страшных карлов, древние гробницы и сокровища оказывались прямо за стеной ее спальни… снились люди, за которыми, как тени, следовали их личины, снились райские деревья… в своих снах Лили читала треугольные письма с фронта, перебирала довоенные открытки и желтые фотографии, изобрела новый способ вязания крючком, плыла на корабле с краденым добром, ее убивали ножом в спину, она видела, как разъяренное море, застилая мрачное небо, огромной бурлящей пастью поглощало землю…
Сон для Лили – материнская грудь первородного Хаоса, и лишь припадая к ней, можно утолить, пусть и ненадолго, сосущее одиночество своей души. Ибо есть в Лили непреложная уверенность в том, что все мы вышли из Хаоса, и сколько бы олицетворений после него ни прошли, он – в нас, остальное – лишь форма. И если человек лишается этого материнского источника, жизнь ему не мила.
Потому только сон может примирить Лили с реальностью. Благодаря своим снам Лили часто не помнит, что было сегодня и вчера, а потом все это каким-то странным образом переписывается, переплетается в ее голове, помимо ее воли, без всяких усилий, и ей остается только подозревать, что, возможно, на самом деле все было совсем не так, и было ли вообще то, что, как ей кажется, было…
Тем не менее, на совете своего педагогического отряда, за чаем, накрытым на последней парте, учительница все же рассказала о своем походе к ученику и высказала сомнение в моей адекватности. После чего педагогический отряд со всей своей педагогической находчивостью стал «по своим каналам» собирать подтверждения моей предположительной неадекватности и выяснил-таки, что я в действительности болен на всю голову и несколько позвонков, так как однажды выпал из окна третьего этажа горящего дома, и выпал весьма неудачно, и с тех пор больше не хожу на службу, получаю пенсию, пью пиво и веду крамольные беседы, причем при детях…
Скоро Ирина Владимировна вызвала Лили и, посадив ее за парту напротив, начала говорить, что сынуля стал в последнее время очень рассеян, не работает на уроках, практически спит, и, конечно, она понимает, что мальчика растить очень сложно, была бы девочка – совсем другое дело… «ведь он у вас и так нервный – то губы кусает, то ногти грызет, то плечо тянет, – что-то, видимо, у вас в семье не так, может, проблемы какие?..»
Сынуля в это время сидел через ряд, на первой парте, и то нервно теребил плечо пиджака, то раскручивал и закручивал ручку, то открывал тетрадку и снова закрывал, дети шумели, рядом уже стояло несколько любопытствующих, внимательно глядящих то на Лили, то на Ирину Владимировну, учеников. Лили растерянно молчала… и И. В. отложила разговор до родительского собрания.
Через неделю, сразу после собрания, И. В. попросила Лили остаться. Когда, наконец, все долго и медленно, но все же разошлись, И. В. подошла к ней, сидящей за партой, присела за другую вполоборота к Лили и, улыбаясь и розовея так, что, мол, разговор предполагается деликатный, начала говорить с ужимным предисловием, что она даже не знает, как сказать, и, конечно, не имеет права лезть в личную жизнь, но, тем не менее, считает своим долгом высказать некоторые предположения и, может быть, даже помочь. «Конечно, я понимаю, – говорила она, – что мальчика воспитывать очень тяжело, и еще тяжелее, когда нет отца. Мальчику действительно нужен отец, это девочку можно как-то еще воспитать одной, а мальчику нужно с кого-то брать пример, – да и вообще, мужская рука им всегда нужна. И если своего отца нет, то, конечно, вполне можно найти другого – не думайте, я совсем не против, а даже за то, чтобы семья была полная и в воспитательном плане, и в материальном, опять же, это тоже сейчас немаловажно, – но ведь все-таки делать это надо очень осторожно, чужого человека нужно сначала очень хорошо узнать, прежде чем приводить его в семью и доверять ему своего ребенка. Да и мужчины сейчас, скажем так, часто встречаются… ну… не очень надежные, порядочные, что ли, теперь и не знаешь, чего от них ожидать… так что надо бы хорошенько, наверное, сперва проверить, прежде чем решать, с кем связывать свою жизнь, ведь на ребенка-то это влияет тоже, может быть, даже больше, чем на нас…
– Спасибо… я, конечно, так и сделаю… наверное… при случае, если… вдруг… – сказала Лили, пытаясь припомнить, с кем, где и когда она решила связать свою жизнь. Неужели – недоумевала она – в ее личной жизни что-то происходит, а она даже не понимает и не помнит этого?!
– Вот и хорошо! – довольно сказала И. В. – Подумайте, может, мальчику все-таки пока пожить у ваших родителей, пока вы узнаете друг друга получше, но это, конечно, вам решать… я все понимаю…
– Мы и так живем у родителей… – удивленно протянула Лили.
– Но когда я к вам приходила, когда вы болели с этими бабочками и африканцами, там был явно не ваш отец! – начала раздражаться И. В.
– А, – наконец поняла Лили, – это был мой брат!
– Брат?
– Да, мой родной брат.
– Так что же вы сразу не сказали, что это ваш брат, – поникла И. В. и даже как-то сразу посерела.
– Не знаю, – ответила Лили, – я как-то не подумала об этом…
– Хорошо, – уже устало ответила И. В. и, опираясь о парты ладонями, которые немедленно раскраснелись до кончиков пальцев с лиловыми ногтями, медленно тяжело встала, – тогда не буду вас больше задерживать…
Отец не выносит, когда кто-нибудь в доме болеет, он начинает раздражаться и кричать, что это все неправда, что все притворяются. Для него мучительно, когда нужно что-то предпринимать, переживать за кого-то, тем более, если это важно. И для Лили с сынулей это всегда повод перебраться сюда, в дом на Рождественской улице. Здесь все любимые вещи Лили, разве что, кроме свитера, большого – размера 52 или 54 – рябого свитера, с которым Лили спит, накинув его на плечи или положив рядом, и который она всегда уносит с собой. Не знаю, когда и откуда она взяла этот свитер, но, как говорит Лили, переплетение его черной и белой нити – это переплетение Хаоса и Света. Вот так, в объятиях Хаоса и Света, Лили и «уходит» от нас по ночам. Каждую ночь Лили входит в сон, словно сквозь сито, и превращается во вселенскую пыль, сливается, растворяется там и блаженствует в единении и гармонии, а к утру Хаос и Свет вновь собирают Лили и показывают ей сны, чтобы форма не вспомнила свое содержимое и не сошла с ума от его осознания. Лили всегда больше там, чем здесь, – не в снах даже, они лишь часть того, наиболее похожая на жизнь, сглаживающая грань, – а в той темноте, пустоте первородного Хаоса, который является основой всего. И чем больше жизнь реальная перетягивает Лили на свою сторону, тем меньше в Лили жизненных сил.
После рождения сынули, за годы долгих бессонных и полубессонных ночей нить, связывающая Лили в ночные часы с окружающим миром, истончилась. То были годы, когда сна катастрофически не хватало, и жалкие его глотки не утоляли растущую жажду. Жизнь реальная стала занимать слишком много места. Зараженная от матери патологической ответственностью, Лили тогда иссякла почти полностью, – у нее не было сил этому перечить, возмущаться, противостоять; ни на злость, ни на радость не было сил. И потому теперь сон Лили очень чуткий. В спальне Лили нет часов. Лили ложится за полночь очень редко: несколько дней после она подолгу не может заснуть. Она не может спать днем, даже если ей очень нужно и хочется. Если за день она сильно устанет, то ночью не сможет заснуть и будет лежать до рассвета с чувством, что вот-вот умрет от усталости.
В отличие от Лили, я люблю сидеть долго, почти до утра, а потом спать до обеда, я могу заснуть в любое время суток – когда хочу, и проспать десять-двенадцать, а то и пятнадцать часов, и мне все равно, снятся мне сны или нет, и что в это время творится вокруг меня. Потому, даже когда мы живем в одном доме, у нас не много общих часов.