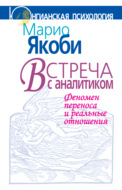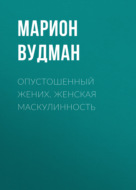Buch lesen: "Сказки обратимой смерти. Депрессия как целительная сила"
© Когито-Центр, 2014
* * *
Сказки обратимой смерти. Депрессия как целительная сила
Моим детям – любимым Яаре и Агаму
Вы научили меня любви
Я знаю глубину. Я в нее проникла
Корнем. Но ты боишься глубин,
А я не боюсь – я там была, я привыкла.
(Плат С. Душа ивы. Пер. Рут Файнлайт)
Пролог
В один из вечеров третьего месяца безоблачной беременности у меня началось кровотечение. Я сидела на унитазе и плакала. Позвала своего тогда еще будущего мужа, добралась до машины – и в больницу: до нее было несколько минут езды. Худая врач с русским лицом такого же оттенка, как и ее бледно-зеленый операционный костюм, выглядела, будто ее только что разбудили, и была настолько вялой и безразличной, я бы сказала, даже отрешенной, что у меня закралось подозрение, не укололась ли она. Грубо покопавшись во мне наконечником устаревшего УЗИ, врач сообщила, что не видит никакой беременности. Получалось, что я все выдумала. Наверное, мой растерянный вид вызвал в ней жалость, и, смягчившись, она добавила, что аппаратура эта старая и что мне стоит подождать до утра, когда откроют кабинет с новым УЗИ и сделают более подробное обследование.
– Жаль, – еле коснувшись моей руки, заметила она.
Я лежала на больничной кровати. Одним этажом выше прямо надо мной рождались дети; матери кормили, кружили по коридору, как и положено после родов, на широко расставленных ногах и кровили в толстые прокладки. Я уже больше не кровила – моя маленькая уже не существующая беременность больше не кровила.
Утром молоденькая, лет двадцати, техник обследовала меня на новом УЗИ.
– Это mis1, – громко бросила она стоявшему возле моей головы врачу.
Я выползла из кабинета; трусы в пятнах свернувшейся крови, живот вымазан прозрачным гелем. Вытираюсь. Все. Я больше не беременна. И что же мне теперь делать?
Все старались делать вид, что ничего не случилось.
– Это ведь не то, чтобы ты действительно потеряла ребенка, – сказала мне моя лучшая подруга, и у меня не хватило духу ей возразить.
А на самом деле я чувствовала, что, да, потеряла ребенка, но говорить об этом мне нельзя. Всю свою жизнь я пыталась исправить неисправимое, спасти безнадежное тем, что переключалась на что-то новое и замечательное – этакое чудодейственное лекарство, которое я сама для себя же и придумывала. Лекарство достаточно длительного действия, чтобы, очнувшись, я вспоминала о пережитой боли как о чем-то мимолетном и незначительном. Так было и после выкидыша. Прошло два дня, мы ехали в машине. Дорога эта из Тель-Авива в Иерусалим всегда потрясающе красива.
– Давай все поправим, – предложила я своему другу, не сводя глаз с дороги, – давай, поженимся.
В тот же вечер я позвонила нашим самым близким друзьям и сообщила, что у меня есть два известия: одно грустное и одно радостное. Я уже больше не беременна, и я выхожу замуж.
Мы погрузились в подготовку к свадьбе и делали все, о чем мечтали: подобрали чудесный свадебный наряд; накатали несколько сот километров в поисках особых сыров, хорошего вина и свежего домашнего хлеба, который будет доставлен еще теплым прямо к праздничному столу. И все это время я не радовалась так, как думала, что должна радоваться. А потому сердилась на себя, даже начала подозревать, что, возможно, недостаточно люблю своего будущего мужа, и придиралась к нему из-за любой мелочи, объясняя, как это важно не упустить ни одной детали. И мы ничего не упускали; все, конечно, было отлично. Все, кроме одного: ничто меня по-настоящему не радовало, и я пришла к выводу, что у меня явно есть какой-то дефект; что я не способна любить. Я продолжала готовиться к свадьбе, злясь на себя за то, что не свечусь от счастья.
Мы поженились в саду его мамы. Сама хупа происходила на вытоптанной площадке между лимонным и оливковым деревом. Позже я не раз мысленно возвращалась в это место в надежде найти там убежище и душевный покой. Все вокруг нас растроганно улыбались, а я сверхчеловеческим усилием пыталась связать себя с этим садом, с этими праздничными лицами, с моим женихом, с моей мамой, с моей свадьбой, с моим любимым человеком.
Ночью, не сменив одежды, мы разбирали подарки и воевали с муравьями, которые вдруг атаковали нас из-под двери ванной комнаты. В ту ночь я вела себя как мальчик из старой голландской сказки, который пальцем заткнул дырку в городской стене, чтобы спасти свой город от наводнения. Мой город будет затоплен уже назавтра, но в ту самую ночь я об этом еще не знала. Только продолжала упрямо сражаться с черным увертливым существом, которое извергалось из щели за плинтусом.
Все это время мой теперь уже законный муж был настроен очень великодушно: он рассчитывал на щедрое вознаграждение, которое ждет его где-то там среди виноградников Бургундии.
Мы улетели рано утром. Париж встретил нас проливным дождем. Взяли напрокат машину и только тогда спохватились, что не имеем понятия, куда ехать. Девушка, оформлявшая наш заказ, сказала, что дорога в Осер (первый романтический городок на нашем пути) займет пару часов. Уверенные, что для нас нет ничего невозможного, мы успешно преодолели лабиринты мегаполиса и довольно быстро оказались на нужном нам загородном шоссе. Мы остановились в маленькой гостинице, на первый взгляд романтической, а на самом деле – сумрачной и пыльной. Потолки в ней были отделаны каким-то черным прозрачным материалом; и вся она выглядела, то ли построенной в стиле далеких 1980-х, то ли сохранившейся нетронутой с тех уродливых времен. Мы видели свои черные, как на негативе, отражения сначала на потолке ванной комнаты, а затем – над кроватью; эта картина отпечаталась у меня на внутренней поверхности век и возвращалась ко мне в течение долгих месяцев, словно предвестник неотвратимых бед.
Утром мы отправились в Шабли. Через несколько минут я захотела пить. Выпила воды, но жажда не проходила; выпила еще, но горло по-прежнему оставалось сухим. Меня охватила паника; я была уверена, что умираю. Попросила вернуться в гостиницу. Он не понял. Немного поспорили.
Вернулись. Весь тот день провели в комнате. На следующее утро опять отправились в дорогу. Я чувствовала себя слабой и беспомощной. Глядя в окно нашей маленькой машины, я отсчитывала километры, радуясь уже знакомому мне пейзажу: мы едем – и все в порядке. Вот оно, то самое дерево, мимо которого мы проезжали вчера, а в горле не пересохло; после него – дорожный знак, а я не при смерти; мы поравнялись с маленьким мостиком, а я все еще не умерла. Так прошел день. Мы пили знаменитое местное вино; у меня кружилась голова, но я не беспокоилась: алкоголь обычно вызывает головокружение.
Оставшиеся двенадцать дней мы колесили по самым красивым дорогам Франции, ночевали в действительно романтических придорожных гостиницах, средневековых замках и небольших дворцах. Я же была уверена, что со мной происходит одно из двух: либо я постепенно схожу с ума, либо – умираю. Я была раздавлена ужасом смерти. И ни разу так и не смогла толком объяснить моему самому любимому человеку, который уже пять лет был моим единственным мужчиной и уже несколько дней являлся моим законным мужем, что я чувствую.
Были ночи, которые он пролежал, не выпуская моей руки, так как я была уверена, что это последняя ночь в моей жизни. Как-то я выбежала из ресторана в ту самую минуту, когда нам подали еду: мне показалось, что я теряю сознание. Правда, я тут же себя успокоила, что местная больничка находится совсем рядом; гуляя, мы несколько раз проходили мимо нее.
С тех пор мы почти всегда ели в комнате. Он изловчился вкусно и быстро готовить, но потом сам же все и съедал: я потеряла аппетит, с трудом заставляла себя что-нибудь проглотить. Начала худеть и слабеть. Он пытался меня поддержать. День за днем, час за часом. Был счастлив, когда мне удавалось – ради него – заставить себя чему-то радоваться; проклинал (мысленно, конечно) те нескончаемые часы, когда я сидела с искаженным от ужаса лицом, всматриваясь в никуда. Он не понимал, что мне необходимо вернуться домой, а я боялась ему об этом сказать.
В начале третьей недели мы остановились в очаровательной маленькой гостинице в одном из городков Периго. Разместившись в уютной комнате, мы вышли во внутренний двор и неожиданно оказались в изумительном парке с небольшим бассейном, который выглядел, как настоящий пруд; с сочно-зелеными лужайками и клумбами роз. Я ступала по дорожкам, как столетняя старушка с пергаментной кожей и хрупкими косточками: шажок и еще шажок, медленно и осторожно.
Там я окончательно поняла, что если я не в состоянии наслаждаться окружающей меня красотой и любовью, нам лучше вернуться домой. И не только поняла, но и произнесла это вслух. Он согласился. Следующим утром мы выехали в Париж, до которого было десять часов пути. С этого момента я позволила себе расслабиться и тут же начала стремительно падать. Я не сомневалась, что умираю. Вечером к нам в номер пришла моя подруга. Я лежала в постели и виновато улыбалась. Она громко смеялась, курила возле окна, предложила посидеть в каком-нибудь маленьком кафе. Я почти все время молчала; у меня появилось чувство, что эта жизнь уже не для меня, и все, что она может предложить – уличные кафе, шутки, сплетни, веселье, – меня уже не касается. Непреодолимая сила засасывала меня все глубже и глубже. Я была уже далеко-далеко от того места, где моя подруга радовалась нашей долгожданной встрече.
Пришла врач и после короткого осмотра сказала, что у меня, скорее всего, мононуклеоз и мне, естественно, необходимо вернуться домой.
Возвратились. За окном были длинные, полные света и солнца летние дни, а я отказывалась встать с постели. Почти ничего не ела. Не могла объяснить, что со мной происходит, что я чувствую. От малейшего движения отвратительно кружилась голова. Огромными от ужаса глазами я вглядывалась в пустоту, в окружающую меня тьму, в лимб, в никуда… Меня не существовало… И так день за днем, неделю за неделей. Вечность.
Когда же наконец, все еще слабая и испуганная, я начала осторожно, опираясь на мужа, вставать и даже делать несколько шагов, мне стоило неимоверных усилий убедить окружающих, мою маму, моего растерянного супруга, моего скептически настроенного врача, что мои ощущения не являются плодом моей перевозбужденной фантазии. Я была обижена на весь мир, испугана и очень одинока.
Должно быть, прошло около трех месяцев после нашей поездки. Мне казалось, что понятие времени меня больше не касается. Моя жизнь протекала в ее собственном режиме: от головокружения до потери равновесия, от испуга до ужаса.
Ну а затем я прошла все существующие анализы и обследования. Меня направляли на проверку слуха и пространственного зрения, на компьютерную томографию головы и шеи; записывали электромагнитные импульсы, делали УЗИ и общие анализы крови; проверяли гормоны и железы внутренней секреции. Меня осматривали специалисты-невропатологи; ортопеды стучали по коленкам и прощупывали позвонки. Я сидела в звуконепроницаемом аквариуме и должна была нажимать на большую кнопку каждый раз, когда слышала звук, иногда такой слабый, что мне казалось, что он звучит только у меня в голове. Я сидела напротив беспорядочно мерцающего экрана, и мне надо было в течение, как мне показалось, трех часов опять нажимать на кнопку каждый раз, когда я видела (или мне казалось, что видела) яркую вспышку молнии. Меня подсоединяли к электродам, смазывали гелем; я наклоняла голову, поднимала ее и опять наклоняла. Я садилась, вставала; мне мерили давление, пульс, температуру – ничто не свидетельствовало о каких-либо нарушениях; более того, даже уровень железа в моей вегетарианской крови никогда не был таким высоким, как тогда. От подозрения на мононуклеоз отказались еще в самом начале марафона после простого анализа крови. Ну а больше всего меня раздражало, что мой супруг не уставал повторять, какая я красивая, да и я сама, глядя в зеркало, видела перед собой действительно красивую женщину, но при этом у меня каждый раз все внутри сжималось от предчувствия надвигающейся беды. Мне казалось, что это моя лебединая песня. Я думала, что это еще один намек на приближающийся конец.
Часами я пыталась описать мужу, моим родителям, многочисленным врачам подробнейшие детали того, что я чувствовала, что меня так пугало. Паника, ужас, неожиданные необъяснимые волны головокружения и слабости. Я искала все новые образы и сравнения, которые приблизили бы их к моему состоянию; заставили бы их понять, что я чувствую. Я стою на палубе раскачивающегося на волнах корабля; нет, я вращаюсь внутри бетономешалки, я – мелкая разноцветная галька, которая поднимается и опускается в каком-то постоянном круговом ритме; я поднимаюсь и опускаюсь – почти падаю – и должна за что-то ухватиться. Но ухватиться было не за что, поскольку моему мужу надоело, и он сказал:
– Я не собираюсь больше погружаться с тобой в это твое никуда. Я опять начинаю жить.
И ушел. Правда, он каждый день возвращался с работы и преданно отвозил меня к врачам, на встречах с которыми я упрямо настаивала, но сам уже был не со мной.
Моя мама – опытный врач-психиатр – и мой участковый врач начали все чаще произносить вслух то, что раньше еле слышно бурчали себе под нос. Моя мама сказала: – У тебя депрессия.
Я позвонила своему психологу, той самой, с которой перестала встречаться, как только забеременела и была такой счастливой (миллион лет тому назад…).
Пришла к ней, села на диван и заплакала. Я плакала первый раз с той страшной ночи, когда потеряла моего ребенка; и это был первый раз, когда я вообще плакала у нее в клинике. Я рассказала ей все, что случилось после того, как в последний раз вышла из этой комнаты. О выкидыше, о свадьбе, медовом месяце и о моей болезни.
И она произнесла слова, которые распахнули передо мной двери на пути к медленному и длительному выздоровлению.
– С тобой произошло что-то ужасное, – сказала она. – Ты потеряла ребенка. Тебе надо было завернуться в дерюгу и посыпать голову пеплом, сидеть на полу и оплакивать свою судьбу, но никто не смог до конца понять и признать твою боль.
Происходящее со мной приобрело форму, а я, разобравшись, влила в нее содержание: я пыталась преодолеть и вычеркнуть мою потерю, не обращать внимания на боль, подавить ее, но она была сильнее меня, она овладела мной, заполнила меня всю – до краев. Я превратилась в сосуд, вместилище для депрессии, для отчаяния и не отпускающего страха надвигающейся смерти; и ничто другое туда уже не помещалось. Я была в аду, и внутри меня тоже был ад.
Я была в депрессии.
Жила-была девочка
Не могу сказать точно, когда именно и каким образом в моей постепенно выздоравливающей душе зародилась связь между депрессией и знакомыми мне с раннего детства сказками. Как долгожданные спасительные облака во время продолжительной засухи, всплывали в моем сознании образы, слова, картины: проглоченная волком Красная Шапочка появляется из его распоротого брюха, Белоснежка падает замертво и вновь оживает, Спящая Красавица просыпается через сто лет от поцелуя принца… Теперь все они стали мне особенно близки и понятны.
Я вспомнила сказку, которую читала девочкой в кибуце; одну из тех, что читала и перечитывала как завороженная пять, десять, а то и больше, раз в ленивые послеобеденные часы на железной кровати детского корпуса, одинокая в беспокойном ребячьем муравейнике. Вспомнила, как гуляла в волшебном лесу: там, в заброшенном замке жила принцесса с золотыми локонами (такими, каких у меня никогда не было), заколдованная злой феей на долгие семь лет. А потом она очнулась – красивая, умная и повзрослевшая.
Златовласка, Белоснежка, Красная шапочка, Спящая красавица, а с ними и Персефона – похищенная древнегреческая богиня плодородия, ставшая богиней царства мертвых – роились в моей усталой голове; переговаривались, шептались или просто, молча, кружились в воздушном безостановочном хороводе. И я, прислушиваясь к ним, начала прислушиваться и к тому, что происходит в моей душе: тщательно, крупинку за крупинкой очищала настоящее от надуманного, пока не начал вырисовываться облик монстра, угрожающего лишить меня всего самого дорогого. И вместе с этим мне становилось ясно, что моя история в точности повторяет их: как Белоснежка и Инанна (шумерская богиня, удалившаяся в царство мертвых), так и я оказалась похороненной заживо на дне глубокого колодца под названием депрессия, а теперь я пытаюсь оттуда выбраться. И, как Златовласка, я просыпаюсь совершенно другой.
В это же время начались мои встречи с потрясающей женщиной, «шаманкой», скрывающей свои волосы под плотным белым платком, которая с тех пор и до сегодняшнего дня служит мне верным и надежным проводником.
Тогда же моему мужу удалось в буквальном смысле слова вытащить меня из дома: на желеобразных, дрожащих, как студень, ногах, оглушенная, как мне казалось, невыносимым шумом улицы, с остановками и передышками я проделала путь от дома до машины, чтобы затем, вцепившись в продуктовую коляску, безразлично плестись вслед за ним по супермаркету. Нестерпимые приступы головокружения, превращавшие меня в ледяного истукана, моя оптимистически настроенная наставница называла «внутренним перерождением жизненных механизмов».
В те дни, в самом разгаре процесса, я не могла разобраться в истинном положении вещей, но сегодня с высоты прошедших лет я вижу, как неведомые силы, словно передвигая дрейфующие материки, перестраивали мою душу. Казавшиеся несокрушимыми преграды были снесены, а образовавшиеся еще в детстве бреши в защитной стене, наоборот, заделаны (и теперь я их тщательно оберегаю). Скрывавшиеся от посторонних глаз растрепанные ведьмы с черными ногтями вылезли из подземелья, и до сих пор я не всегда с ними справляюсь… Послушные мамины дочки, декламирующие на табуретке переходящие из поколения в поколение детские стихи, были загнаны на чердак и все еще не знают, как оттуда выбраться, и стоит ли вообще это делать. Цели, к которым я стремилась изо всех сил, не замечая, как по дороге топчу и давлю другие частицы моего же собственного Я, вдруг испарились, будто их и не было. Образы успеха и счастья, поселившиеся в моем сознании еще в детстве, безжалостно подгонявшие меня, наступавшие мне на пятки, неподвижно замерли. Теперь мною управляли новые силы; и они были мягче, сострадательнее, человечнее по отношению ко мне и окружающим.
Тогда же я смогла увидеть принципиальную модель, по которой выстроены все сказки, не подвластные законам времени: ведь это их герои нашептывали мне свои истории, когда мне было особенно тяжело. Эти сказки загоняют своих героинь в безвыходное тупиковое положение, в результате чего они на какое-то время умирают, а затем, воскреснув, начинают новую жизнь. Я называю их сказки обратимой смерти.
В моем понимании, сказки обратимой смерти – это неоднократно повторяющиеся истории о депрессивном процессе, рассказанные посредством различных сюжетов, где обязательно присутствуют погружение в преисподнюю душевного ада, кажущееся бесконечным нахождение в этом аду, а затем не менее тяжелое восхождение, своего рода возрождение, которое влечет за собой жертвы, уступки и потери.
Те из нас, кто мыслит категориями современного западного общества и относит болезнь, депрессию или потерянность к явлениям однозначно отрицательным, которых следует избегать и предотвращать, будут сильно удивлены, когда убедятся, сколько героинь сказок и легенд, на которых основана наша культура, абсолютно осознанно обрекают себя на исчезновение (временное), на муки ада, на обратимую смерть. Сразу замечу, что эта тяга к небытию (и возвращению из него) не является исключительно женским уделом, но мужчины и женщины умирают и рождаются заново совершенно по-разному; я обязательно остановлюсь на этом подробнее. Прежде чем мы продолжим, я хочу еще раз подчеркнуть, что эта книга касается в основном депрессии, наблюдающейся исключительно у женщин, поэтому она и написана мной от лица женщины: я часто использую обороты «мы, женщины» или «у нас, у женщин», а не обобщенные «мы» и «у нас», так как пишу оттуда, изнутри, где душа и плоть неразделимы. Ну а вам, мужчины, которые тоже решили запрыгнуть в нашу карету, я, естественно, говорю «добро пожаловать», но предупреждаю: на этой дороге иногда здорово трясет.
Почему Спящая Красавица не желает смотреть на мир через прозрачный целлофан, в который ее обернули необычно преданные родители2, и ищет по всему замку одну-единственную сохранившуюся иглу, чтобы наконец-то погрузиться в сон? И почему Инанна, владычица небес, отказывается от царского трона, покидает небо и землю и спускается в подземное царство своей сестры Эрешкигаль? Она совершенно осознанно идет навстречу своей страшной судьбе. А Белоснежка? Она снова и снова отворяет дверь перед своей Тенью3, скрывающейся под видом бедной старушки. Вряд ли девушка не знает, кто стоит (несколько раз подряд) за дверью: ведь это Старуха-Смерть собственной персоной, предлагающая ей яблоко!
Белоснежка отворяет дверь Смерти до того момента, пока перед ней самой не распахиваются ворота в небытие. И там, в стеклянном гробу, забывшись глубоким, как обморок, сном, она, наконец, успокаивается и дает возможность своей растерзанной душе перестроиться заново для того, чтобы жить дальше. Вот и Инанна – она погибает от «взгляда смерти», но затем благодаря усилиям богов в ее изувеченное тело возвращается жизнь. Что-то подобное происходит и со Спящей Красавицей: она погружается в вечный сон, из глубин которого и появляется долгожданный принц.
Несмотря на то, что я воспитана (в принципе все мы так воспитаны) на том, что депрессия, которую испытала я и испытывают героини сказок возвращения из небытия, представляет собой явление негативное, от которого необходимо излечиться, сегодня я уже так не считаю.
Депрессия в моем сегодняшнем понимании – это экстремальное орудие, крайняя мера спасения из безвыходного, тупикового душевного состояния (что абсолютно ясно вытекает и из сказок обратимой смерти); инструмент, вне всякого сомнения, опасный, который я ни в коем случае не посоветовала бы в качестве палочки-выручалочки. И все же я считаю, что мы в состоянии по-новому взглянуть на тяжелое испытание, называемое депрессией, оставив в стороне общепринятые условности, освободившись от необходимости беспрерывного тотального контроля. Мы в состоянии отнестись к депрессии как к неминуемому процессу, к которому прибегает душа, оказавшись в невыносимой ситуации.
Многие последователи холизма видят в любом заболевании обязательную лечебную составляющую, т. е., по их мнению, любая болезнь одновременно является и лекарством; к любому заболеванию можно отнестись как к «падению ради взлета». Более того, даже конвенциональная медицина пусть не всегда, но признает, что в анамнезе многих заболеваний прослеживается история подавления эмоций, наших или наших родителей, или, на худой конец, что подавление эмоций может нанести вред физическому здоровью. В этой книге я пишу только о депрессии и только на основе моих личных переживаний, но вполне допускаю, что подобные процессы свойственны и многим другим как душевным, так и физическим расстройствам.
Я рассматриваю депрессию как своего рода благотворную регрессию, как убежище, в стенах которого можно укрыться, подобно улитке, прячущейся в раковине. И там, в недрах временного небытия, отпустить поводья жизненной колесницы, чтобы дать возможность затянуться той самой душевной трещине, которая и послужила входными воротами для депрессии. Ну а что касается потери управления, то остается надеяться на внутреннее свойство, называемое интуицией, которое, как верный конь, не даст нашей душе сбиться с пути и найдет потерянную нами дорогу домой.
По-моему, эту метафору я позаимствовала из русской сказки, где Иванушка-Дурачок (кажущийся таковым) настолько доверяет своему коню (Коньку-Горбунку), что по его совету прыгает в котел с кипящим молоком и как водится, выходит оттуда красавцем-принцем.
Первая, о ком я подумала, начиная мое путешествие по следам героинь сказок, вернувшихся из небытия, была Персефона. Юная беззаботная Персефона, как повествует греческая мифология, была похищена Аидом, богом подземного царства мертвых, и стала его женой. Деметра, богиня плодородия и земледелия, искала свою дочь по всему миру, предаваясь безутешной скорби, и в это время земля была бесплодна; ничто не всходило на засеянных полях. Люди умирали от голода и не приносили жертв богам. Зевс начал посылать за Деметрой богов и богинь, чтобы уговорить ее вернуться на Олимп. Но она, сидя в черном одеянии в элевсинском храме, не замечала их. В конце концов Аид был вынужден отпустить девушку, но перед освобождением дал ей семь зерен (или три, есть разные варианты) граната. Персефона, все это время отказывавшаяся от пищи, проглотила зерна – и тем самым была обречена на возвращение в царство Аида. Полгода (весну и лето) она проводила с матерью на Олимпе, а осенью опускалась в подземелье править царством мертвых. И так из года в год вся природа на земле цветет и увядает, живет и умирает – поднимается и опускается вместе с Персефоной.
Этот пересказ древнего мифа может вызвать недоумение: казалось бы, что общего между мифологическим похищением и нами – женщинами, добровольно ищущими дорогу в недра своего подсознания и идущими по ней до полного изнеможения? Воспользуюсь красочным образом, позаимствованным у Клариссы Пинкола Эстес: достаточно лишь слегка дунуть, как с Персефоны слетит вся пыль «патриархальной морали», предписывающей обязательное похищение в Царство Мертвых и обнажится древний «оригинал» – Персефона сама по доброй воле отправляется в дальний путь.
Ведь не может быть, чтобы богиня весны, дочь богини плодородия, была похищена во чрево земли, которое по логике вещей принадлежит ее матери: сюда, в земные глубины, уходят своими корнями деревья; здесь спят, набираясь сил, пшеничные зерна; земные соки питают все живое на земле. Вся земля – все, что на ней, и все, что под ней, – находится во владении Деметры, а значит, уже принадлежит или будет принадлежать и ее дочери, Персефоне.
Что же происходит в то теплое солнечное утро? Персефона с подружками собирает чудесные полевые цветы – фиалки и ирисы, крокусы, цветы дикой розы и гиацинта – и незаметно отдаляется от всех. И вот, одна, завороженная пьянящей красотой цветущего луга, она находит давно поджидающий ее нарцисс и, естественно, срывает его. Нарцисс с его дерзким тревожащим запахом, с его манящим взглядом, обращенным вовнутрь, в бесконечное «Я», увлекает нас все дальше и дальше вглубь, в зеркальный лабиринт, в стенах которого отражается бездонная вечность. Черная пустота затягивает нас – мы тонем. Стоит Персефоне сорвать нарцисс, как из недр земли возникает колесница, а в ней – Аид, властелин царства мертвых; он увозит ее в свое лишенное света логово.
Даже если Персефона (которая являет собой не что иное, как позднюю версию Инанны) не совсем отдает себе отчет в том, что происходит, она в действительности самым активным образом ищет ворота, ведущие туда, где она должна оказаться. Какая часть Персефоны знает, что нарцисс и есть те самые ворота в мир мертвых? На этот вопрос нет точного ответа, но несомненно, что именно эта часть руководила всеми ее действиями в то солнечное утро.
А теперь еще одно легкое прикосновение – и перед нами вырисовывается другая стародавняя картина: прежде чем отпустить Персефону, протягивает ей Аид гранатовые зернышки. Крошечные капельки на мужской ладони, они мерцают в темноте, как налитые кровью рубины…
Гладкие, как речные камушки, зерна приятно холодят девичьи пальцы; на мгновение она ощущает языком их тяжесть, еще мгновение – кисло-сладкий взрыв во рту, а затем – слабый всплеск памяти, легкий приятный озноб; и все…