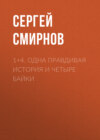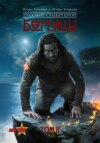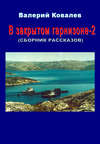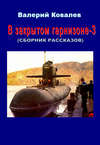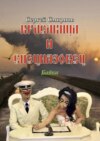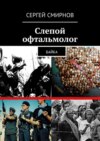Buch lesen: «1+4. Одна правдивая история и четыре байки»
© Сергей Смирнов, 2021
ISBN 978-5-4490-9576-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Мы неизвестны, но нас узнаю́т; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем. 2 Кор. 6:9—10
Высота, не имеющая стратегического значения, или освобождение деревни Гута
Предисловие
Этот рассказ написал очевидец и участник описанных событий – мой отец. Он впервые увидел войну летом 1941 года, когда ему было всего восемь лет. За более чем два года оккупации он насмотрелся многого, успел стать связным партизанского отряда, добывал разведсведения из мест дислокации немецких войск, приближал как мог нашу победу. После войны отец стал офицером ВС СССР, окончил академию и опять пошел воевать, но уже на «фронты холодной войны». Папа побывал в различных местах, многому научился сам и многому научил других, включая своих детей. Он давно уже на пенсии, но не привык сидеть без дела, наверное, именно поэтому и взялся за перо и бумагу. Этот рассказ о Великой Отечественной войне несколько отличается от общей патриотической концепции нашей литературы, и, наверное, именно поэтому мало кто спешит его напечатать на страницах газет и журналов, куда обращался мой отец. Мне это кажется несправедливым.
Высота, не имеющая стратегического значения, или освобождение деревни Гута
Политика – это концентрированное выражение экономики.
Военные должны подчиняться политикам.
Война есть продолжение политики другими средствами.
Карл Фон Клаузевиц
Это событие произошло в первых числах ноября 1943 года, но прежде чем рассказать о нем, надо рассказать об обстановке, сложившейся на фронтах и непосредственно в том месте, где я жил в то время. Жил я тогда в деревне Гута Журавичского района (ныне Рогачевского района) Гомельской области. И было мне тогда всего-навсего неполных десять лет.
После поражения немецких войск на Курской дуге в июле 1943 года началось масштабное отступление вражеских войск. Гитлер объявил рубеж реки Днепр Восточным валом, который должен был остановить наступление советских войск. Но ставка верховного главнокомандующего не имела желания хоть как-то ослаблять темпы наступления на западном фронте. Все большее удаление советских войск от тыловых баз снабжения и надвигающиеся зимние холода никак не влияли на несгибаемую волю партии и правительства СССР. Цена «таких» наступательных приоритетов была тоже понятной и приемлемой для руководства страны. Исчислялась она не валютой, не золотом и даже не советскими рублями, а обычными человеческими жизнями.
В сентябре-октябре 1943 года расквартированное в нашей деревне немецкое подразделение численностью до отдельного мотопехотного батальона начало свой отход за Восточный вал. Кузова немецких автомашин были загружены награбленным добром белорусского народа. Немцы брали все, не гнушаясь отбирать у селян даже клюкву, собранную в лесу. Они загружали ей целые грузовики.
Вечерами для светомаскировки немцы завешивали окна хат брезентом и распивали вино, исправно доставляемое на фронт из фатерлянда. Из их разговоров «под градусом» между собой я, поднаторевший за годы оккупации в немецком, мог понять практически все. Да и что там было понимать в этой пьяной демагогии культурных наследников Шиллера и Гете: «Гитлер капут, нах Днепр».
В сентябре-октябре в нашей деревне немцы провели облаву. Всех молодых людей согнали в охраняемые бараки, а потом погнали за Днепр копать блиндажи и траншеи на линии немецкой обороны. После освобождения Рогачева и Быхова в феврале 1944 года мне довелось побывать в этих траншеях. Они были вырыты, что называется, «для стрельбы стоя, с лошади», с ходами сообщений по всей линии глубоко эшелонированной обороны. Блиндажи и укрытия от артиллерийского и минометного огня отличались повышенной прочностью и были сделаны в несколько накатов.
Отступая, немцы по всем правилам тактической науки цеплялись за каждую естественную преграду, на которой можно было задержать наступление советских войск. Таким рубежом стала и река Гутлянка, которая несла свои воды с востока на запад в реку Днепр. Именно на Гутлянке и стояла наша деревня, получившая от этой реки свое название. Вдоль Гутлянки расположены деревни Болотня, Красногорка, Журавичи, Канава, Гута, Веть и поселок Поддубье.
Однажды дождливой ночью в конце октября 1943 года с востока через деревню Канава в Гуту, освещая фарами грязь осенней дороги, пришла колонна фашистских машин. Обычно немцы в нашу деревню заходили с запада с шоссе Могилев-Гомель, но в этот раз они приехали с другой стороны.
Утром установилась хорошая погода, немцы обошли с обоих берегов реку Гутлянку и начали рыть траншеи по ее левому берегу. Позже, изучая тактику в стенах высшего военно-учебного заведения, я понял, что немецкие офицеры, прогуливаясь по берегам нашей реки, принимали решение на оборону и проводили рекогносцировку местности. Для подготовки линии обороны фашисты согнали на работы все оставшееся население деревни. Мне и другим пацанам моего возраста тоже пришлось рыть траншеи. На войне дети взрослели быстро.
После работы на великий, но уже загибающийся под натиском советских войскТретий рейх пришлось копать землянку для своей семьи. Копал я ее около хаты, которая стояла на удалении 70—100 метров от передней немецкой траншеи. Высокоточного оружия в те времена еще не было, и потому любой советский снаряд, перелетев всего 70—100 метров немецкую переднюю траншею, спокойно мог угодить в наш дом. Ну а кинжальный ружейно-пулеметный огонь, предполагавшийся во время наступления наших войск с необходимым при этом троекратным преимуществом в силах и средствах над обороняющимся противником, вообще должен был сделать решето из нашего деревянного дома. В землянке же была хоть какая-то надежда дожить до прихода освободителей.
На противоположной стороне реки Гулянки через день-два после завершения подготовки немецкой эшелонированной линии обороны появились наши окопчики. С каждым днем окопы соединялись ходами сообщения, превращаясь в траншеи. Советские войска вышли к реке Днепр у деревни Веть-Обидовичи, перерезав шоссе Могилев-Гомель. Таким образом образовалась линия фронта по реке Гутлянка, пересекающая шоссе Бобруйск-Москва и Могилев-Гомель.
К ноябрю месяцу немцы имели на левом берегу Днепра два плацдарма:
– в районе перекрестка шоссейных дорог Бобруйск-Москва и Ленинград-Киев (Довск);
– и в районе Быхова (деревни Селец, Усохи, Палки, Никоновичи и Прибор).
Прошло много лет, а этот день войны остался в памяти со всеми подробностями, как будто бы это произошло только вчера. Примерно в восемь часов утра начался артиллерийский обстрел передней немецкой траншеи, снаряды рвались рядом и с нашей землянкой. Артиллерийская подготовка продолжалась минут пятнадцать-двадцать. Потом воцарилась тишина, никто с нашей стороны линии фронта не закрепил ружейно-пулеметным огнем результаты артиллерийской подготовки. У фашистов было достаточно времени, чтобы вернуться из блиндажей и укрытий на подготовленные позиции, чтобы отразить атаку наших войск.
Я выполз из землянки и был удивлен этой тишиной. Над рекой простирался густой туман.
Часам к одиннадцати-двенадцати туман над рекой рассеялся. Я периодически вылезал из землянки и смотрел, что происходит на линии фронта. Именно после того, как рассеялся туман и мне, находящемуся на значительном удалении от позиций советских войск стало видно все, а значит и немцам тоже, началось наступление. Почему никто из командиров не отважился использовать туман как естественное средство маскировки во время выхода подразделения на позицию развертывания, мне непонятно до сих пор. После артподготовки прошло более двух часов. Немцы успели не только вернуться на свои огневые точки, но и восстановить поврежденные инженерные сооружения перед первой траншеей.
С противоположной стороны, занимаемой советскими войсками, из низины, которую окаймляют справа и слева небольшие ландшафтные возвышенности, выходили наши солдаты. Шли они спокойно, как бы даже обреченно, во весь рост, не спеша, один за другим, направляясь вдоль заливного луга Гутлянки по направлению ее течения. Они не открывали огня, давая тем самым возможность противнику отслеживать их передвижение и намечать сектора обстрела. Пройдя определенное расстояние и выйдя на уровень околицы нашей деревни, где начинается высота, называемая «Лысая гора», на которой закрепились немцы, наше подразделение форсировало Гутлянку в пешем строю.
Непонятно, почему никто даже не подумал о том, что можно было подойти к высоте сбоку или со стороны деревни, где фашистский сектор обстрела был бы гораздо уже, а складки местности позволяли бы передвигаться в сторону противника перебежками от укрытия к укрытию.
Перейдя Гутлянку, наши солдаты рассредоточились по фронту и, как показывали в лучших патриотических фильмах, с криком: «Ура, за Родину, за Сталина!» – бегом устремились на Лысую гору. Вот тут началось самое страшное: немцы открыли прицельный ружейно-пулеметный и минометный огонь по наступающему подразделению. Наши солдаты падали, устилая своими телами подступы к Лысой горе. Атака была отбита противником как-то очень легко и обычно, как сейчас говорят «в рабочем порядке». Немецкий взвод положил роту советских солдат без героизма и пафоса, используя свою национальную педантичность в подготовке позиций, налаженную систему взаимодействия и тактическое преимущество выбранной местности.
Второй и последующих атак на этом всеми забытом участке фронта не последовало. Наверное, командование решило не посылать больше людей на верную смерть, а возможно, просто командование не дало дополнительных сил и подкрепления. Своего же личного состава после этой атаки больше не осталось. Все ребятки так и остались лежать на склоне Лысой горы.
Через некоторое время немцы сами оставили линию обороны, наши подразделения спокойно, без боя заняли вражеские траншеи. Около нашей землянки проходила проводная линия связи. Немцы, оставляя свой рубеж обороны, педантично, по-хозяйски смотали кабель по всей деревне и забрали его с собой.
Воцарилась тишина – ни одного выстрела. Никакого подкрепления нашим солдатам, занявшим без боя Лысую гору, не было направлено. Силы и средства наших войск оставались за Гутлянкой. Используя это затишье и зная, что наши войска в занятых траншеях остались без снабжения, достаточного количества боеприпасов и наверняка без связи, немецкое командование часа через два по Марковому рву из своего тыла вывело два танка с десантом на броне к траншеям на Лысой горе. Сделав по несколько выстрелов из танковых орудий по позициям, где уже находились наши солдаты, немецкая пехота устремилась к своим траншеям, оставленным ими же в первой половине дня.
Нашим солдатам пришлось оставить Лысую гору и отойти за Гутлянку. К концу дня немцы основательно укрепились в своих траншеях, восстановив всю оборонительную инфраструктуру и инженерию позиций. В течение семи-десяти дней фашисты оставались в траншеях, готовые к отражению новых советских атак.
Ежедневно с наступлением темноты фашисты трассирующими пулями поджигали дома (крыши были из соломы) в поселке Заречье, расположенном на противоположном берегу Гулянки, занимаемом советскими войсками. Таким образом они освещали позиции наших войск. Подобная тактика полностью сводила на нет попытки наших войск подготовить наступление на этом участке в ночной период. За несколько ночей фашисты целиком сожгли поселок Заречье. Наша же деревня Гута, находившаяся на противоположном, немецком берегу речки, не пострадала. Что ни говори, а наши войска относились с большей заботой к своему народу, хотя, по сути, могли делать то же самое для демаскировки фашистских позиций.
За день до ухода из нашей деревни немцы начали уносить снопы ржи, находившиеся на Шаблинском гумне рядом с ветряной мельницей, построенной Зычковым Герасимом и его двоюродным братом Зычковым Петром. Вечером мельницу подожгли. Фашисты также забрали весь скот и угнали его в фатерлянд. На всю деревню, где было порядка ста домов, осталось не более пяти коров. В нашей семье из живности осталась одна кошка.
Немцы уходили тихо, ночью, не давая возможности нашим войскам предугадать их действия. Для пущей маскировки они в обычном режиме стреляли из пулеметов и освещали ракетами передний край наших войск.
Утром стало непривычно тихо. Но тут пришли наши солдаты и жизнь в деревне закипела с новой силой. Несмотря на то что, отступая, немцы забрали практически все, самогонку супостаты найти и увезти в подарок Гитлеру так и не смогли. Стратегический продукт стал наградой за преданность ему и Родине для наших солдат и всех жителей деревни.
На следующий день похоронная команда начала собирать тела погибших солдат на Лысой горе. Братская могила была вырыта на окраине деревни Гута. Со стороны, где и находилась та самая высота, занесенная в не имеющие стратегического значения оперативные сводки как Лысая гора. Я и другие ребята деревни стали свидетелями погребения. Погибших солдат раздевали: снимали шинели, телогрейки, шапки и сапоги. В братскую могилу укладывали рядами, записывая каждого погибшего в реестр, указывая порядковый от края братской могилы. Ряды перекрывали плащ-накидками. Всего в братской могиле было захоронено тридцать шесть человек. По весне, после схода большой воды, когда Гутлянка вернулась в свое обычное русло, были найдены еще тела погибших солдат. Эти тела уже не хоронили в братской могиле, а просто прикапывали на том месте, где они были найдены. Никто даже не удосужился посмотреть карманы гимнастерок. Никто не видел документы тех солдат. Так что, скорее всего, лежит тот боец под Лысой горой и сейчас, и никто не знает, какого он роду племени. А родственники получили в том далеком 1943-м обычное извещение «О пропавшем без вести бойце советской армии».
С того времени прошло много лет. Я сам закончил военную академию, где изучал тактику и стратегию ведения различных видов боевых действий. И с высоты своего опыта и знаний я часто задумываюсь, что это было: разведка боем, наступление, отвлекающий маневр или что-то, что не найти в учебниках военных наук.
Командующий 3-й армией Александр Васильевич Горбатов, прямой начальник погибших солдат, в своих мемуарах «Годы и войны» пишет, что он был всегда против ведения подобного боя. Если предположить, что это была атака «штрафников» просто для смывания кровью позора военных или других преступлений, то тогда все точно было смыто. Смыты были и сами жизни тех бойцов. Но что-то не вяжется в этом предположении «о штрафниках». Все погибшие солдаты были одеты, как говорят, с иголочки – во все новенькое, что полностью противоречит концепции «штрафных подразделений».
Кроме того, среди погибших солдат был Васьков – житель поселка Борки, находившегося в пяти-шестикилометрах от нашей деревни. Он, минуя военкомат, просто записался в действующее подразделение, освободившее его село. Парень просто хотел отомстить фашистам за все годы оккупации и унижения, выпавшие на его долю.
Когда пришла похоронка, родственники Васкова приехали и забрали его тело из братской могилы. Они увезли его, чтобы похоронить в родной деревне.
С 1943 года, года освобождения Гуты, минуло более семидесяти лет, и что же сейчас мы имеем?..
В деревне Гута насчитывается около ста домов, где в настоящее время проживают два-три человека, и те находятся там только летом. Освобождая Гуту, погибло более сорока человек. На сегодняшний день братскую могилу перенесли в Хатовню. Деревня Гута отправила на фронт более семидесяти человек, многим из которых были присвоены офицерские звания. На войне из семидесяти погибло тридцать шесть человек, в том числе четыре офицера. Один офицер умер после возвращения домой от последствий тяжелого ранения.
Три офицера дослужились до звания майор, а один – Жгиров Филипп Ерофеевич – ушел на пенсию в звании генерал-майора. Будучи командиром полка, за успешный захват плацдарма на западном берегу Днепра он был удостоен звания Героя Советского Союза. Во время войны в нашей деревне погибло девять гражданских – детей и стариков. Многие погибли, воюя с врагом в составе партизанских подразделений. Я сам, несмотря на свой малый возраст, был связным 261-го партизанского отряда имени Чапаева, но мне повезло, я выжил и потом еще повоевал, но уже на «фронтах холодной войны».
Сейчас, подводя итог различным событиям своей жизни, я пытаюсь понять, кому и зачем все это было нужно? Какой смысл был в гибели стольких человек на Лысой горе у деревни Гута? А сейчас не осталось и самой деревни. Я ездил туда совсем недавно, там стоят пустые, развалившиеся от времени дома. Люди больше не живут в том месте, за которое было пролито столько крови. Все зарастает, скоро, наверное, на этом месте будет просто лес.
За что воевали, зачем гибли?!
Как капитан Кольцов получил очередное воинское звание
Камень лежачий сдается,
Когда не сдаешься ты сам,
Так будущее создается,
Так строят сегодня БАМ.
Е. Евтушенко
Глава 1
– Тут экскаватор нужен, без техники не обойтись.
– Какой такой экскаватор? Ты откуда такое слово вообще выкопал, лейтенант? Два солдата из стройбата заменяют экскаватор. Я думаю, эту аксиому тебе доказывать не надо, товарищ военный инженер. Сколько в стройбате служишь?
– Скоро год как будет, товарищ капитан. Это, конечно, не считая училища.
– Ну, вот видишь, год служишь, а все девственницей прикидываешься. Вперед к бойцам – и с лопатами на амбразуру.
– Разрешите выполнять, товарищ капитан?
– Не разрешаю, а приказываю. Убежал, солнышко мое военно-инженерное.
Капитан направился в теплушку, дав понять лейтенанту, что разговор окончен. Над теплушкой, продуваемой всеми таежными ветрами, развевался выцветший, намоченный всеми таежными дождями транспарант «Наш ударный труд и боевые успехи – тебе, Родина».
– Хайбендинов! – крикнул капитан.
Из форточки теплушки показалось азиатское круглое лицо с розовыми щеками и заспанными, заплывшими, полузакрытыми, как у только что проснувшегося порося, глазами.
– Че? – гневно буркнуло лицо из форточки. Но уже через секунду, продрав глаза, лицо заголосило: – Ой, я не я, товарища капитана, не моя говорить, шайтан мой ум забрал, моя не хотель, товарища капитана, че говорить.
Но капитан уже не слышал речей из форточки, он спокойно вытер сапоги о коврик у входной двери в теплушку и зашел в упомянутое помещение. Двое солдат с носилками, наполненными щебенкой, проходившие мимо, остановились в ожидании продолжения действия. Но ожидаемого представления не последовало, из теплушки не донеслось ни звука. Через несколько минут Хайбендинов с опущенной головой вышел на улицу, неся в руке сапоги капитана.
– Ой, молодец, Ильяс, настоящий мужчина, правильно сделал, что начальник убиль. И сапоги правильно взяль. Сапоги хороший, надо сапоги одевать и тайга бежать, пока начальник совсем мертвый лежать. Ты беги, мы про тебя никому не скажем, – сказал один из молодых узкоглазых и круглолицых солдат с носилками, который совсем недавно попал в эту забытую всеми часть из далекого аула.
Хайбендинов молча подошел к бежавшему неподалеку ручью, достал свой белоснежный носовой платок и стал отмывать от грязи капитанские сапоги. Солдаты с носилками замерли в непонимании.
На дворе стояла ранняя осень, но в суровом таежном крае было уже достаточно холодно. От холодной воды у Ильяса коченели руки, он не знал, как и что сказать землякам, которые уперлись сначала восхищенными, а затем порицающими взглядами в его спину.
– Идите, пожалуйста, не надо на меня смотреть, – обернувшись, промолвил он уважительно на родном языке.
Двое солдат с носилками молча пошли дальше.
– Не мужчина ты, Ильяс, совсем не мужчина, – сказал тоже на родном языке молчавший все это время второй молодой солдат с носилками.
И здесь произошло неожиданное. Внешне спокойный ефрейтор Хайбендинов резко поднялся, бросил капитанские сапоги, подбежал к солдату с носилками и стал неистово избивать его у всех на глазах, крича что-то не по-русски. Когда Ильяса оторвали от жертвы, он еще долго не мог успокоиться, продолжая эмоционально что-то выкрикивать и материться уже на русском. После проведения экзекуции над соплеменником ефрейтор Хайбендинов спокойно и понуро вернулся к ручью и продолжил мытье капитанских сапог. Несколько бойцов более позднего призыва, чем избитый, наблюдавшие за происходящим издалека, занялись жертвой ефрейтора. Они подняли его из лужи, пинками и пощечинами привели в чувства, дали лопату и отправили работать на самый дальний участок строительства. Никому не хотелось, чтобы эта жертва своим внешним видом и гематомами на лице, оставленными сапогами ефрейтора, дала повод всевозможным офицерам и просто стукачам задавать глупые вопросы и делать неправильные выводы. В Советской армии отношения между военнослужащими строились исключительно на принципах дружбы, взаимовыручки, боевого товарищества и пролетарского интернационализма.
Командир роты военных строителей был в том самом критическом военном возрасте, когда он мог либо перешагнуть капитанский рубеж и спокойно продвигаться к новым карьерным горизонтам, либо навсегда остаться в этом звании. Эта ситуация сильно напрягала Кольцова Александра Александровича и заставляла заниматься обычным военным рвачеством. Нельзя сказать, что Кольцов уж очень перегибал палку, но по сравнению с другими командирами, его рота славилась большим количеством трудовых подвигов и достижений. И как водится, в стройбате за каждым трудовым подвигом стоял свой особый случай и как минимум один инцидент. Надо было проявлять себя, заставлять бойцов перевыполнять нормы, а это как раз и было связано с повышенной эмоциональностью командира и не всегда человеческим подходом к людям. Вот и сейчас капитан понимал, что, прочистив мозги Хайбендинову, он тем самым создал новый виток эскалации неуставных отношений в подразделении. Ну а куда было деваться от тех самых неуставных отношений? Насколько реально, прибегая лишь к одним статьям устава, заставить свободолюбивых таджиков, узбеков, туркменов, киргизов и казахов трудиться не покладая рук во имя трудовых побед на фронтах холодной войны? Чтобы заставить человека работать, и не просто работать, а выкладываться на поле трудовой брани, необходимо было создать целую систему принуждения, поощрения и наказаний. Система должна была включать в себя компоненты, сочетавшие в себе не только принципы, изложенные в уставах ВС СССР и приказах начальников, но и национально-этнические особенности.
Основной категорией военнослужащих, проходивших службу в железнодорожных войсках и стройбате, были представители национальных меньшинств и выходцы из союзных республик. Внутри одной роты, как правило, присутствовало несколько национальных групп. В каждой группе был свой лидер, от сотрудничества которого с командиром роты во многом зависели производственные успехи целого подразделения. Кольцов в работе с личным составом своей роты использовал простой, проверенный временем принцип колониальной Британии: «разделяй и властвуй». Он разделял роту по национальному принципу на взводы и властвовал над этими взводами, периодически приближая одних и отдаляя других лидеров национальных группировок, формально занимавших должности заместителей командиров взводов. В заместители командиров взводов Александр Александрович, как правило, назначал старослужащих, пользовавшихся авторитетом у своих земляков и более-менее сносно владевших русским языком.
Кстати, для многих солдат из союзных республик служба в армии открывала новые горизонты. Так как только в армии они по-настоящему могли выучить и достаточно попрактиковаться в русском языке, являвшимся основным средством межнационального общения Советского Союза. Вернувшись в свой аул после демобилизации, многие нацмены благодаря лучшему знанию русского языка, могли получить высокопоставленные должности в правлении колхоза или совхоза, из которого были призваны в армию.
– Ильяс, сделай доброе дело, пожалуйста, налей чайку командиру, – услышав скрип открывающейся двери, душевным голосом, не отрываясь от рутинной бумажной работы, промолвил Кольцов.
– Есть, товарищ капитан, – из темноты коридора прозвучал голос Хайбендинова.
Ефрейтор, после того как вымыл, тщательно вытер и начистил кремом сапоги начальника, еще долго боялся заходить в теплушку-штаб. Он сидел на крыльце и полировал ветошью уже и без того блестевшие хромовые сапоги капитана. После того самого несуществующего в ВС СССР рукоприкладства, которое позволил себе Кольцов, дабы объяснить ефрейтору, что слово «че» не является уставным и не может употребляться при обращении к старшим по званию, Ильяс долго пытался понять, находясь на улице под дождем, в каком расположении духа сейчас находится его командир.
– Спасибо, чай, Ильяс, у тебя всегда отменный, – капитан с наслаждением отхлебывал ароматный напиток из пиалы, которая появилась на его столе через несколько секунд после отдачи приказа на подачу чая. – Себе-то тоже налей. Там, в тумбочке, еще печенье осталось. Угощайся, дорогой, не стесняйся.
– Спасибо, товарищ капитан, я потом, позже чай пить буду. Товарищу капитану еще что-нибудь нужно?
– Да, Ильяс, я утром чего тебя звал-то? Сказать хотел: надо транспарант над теплушкой обновить, а то совсем обветшал этот «Наш ударный труд и боевые успехи – тебе, Родина». Не дай бог кто из штаба приедет, устроят нам тут разбор полетов после залетов. Да и новый боевой листок1 не помешает.
– Ну, вы бы сразу так и сказали, сейчас уже все готово было бы. А то сразу живот бить и печень опускать. Зачем так больно товарищ капитан?
– Че?..
Услышав это слово и уловив своим звериным чутьем резкое изменение в настроении Кольцова, Хайбендинов моментально исчез из поля видимости начальника, занявшись выполнением поставленной задачи. Вот так одно слово, а точнее даже не слово, а междометие, произнесенное всего два раза за этот день, но в разных лингвистических ситуациях, привело к различным последствиям. В первом случае результатом его употребления стало наказание с применением физической силы, а во втором – немедленное и безоговорочное выполнение поставленной задачи. Все же велик и могуч русский язык.