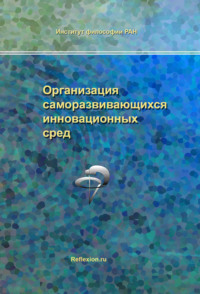Buch lesen: "Организация саморазвивающихся инновационных сред", Seite 4
Что значит мыслить голографично?
В заключение мы хотели бы обратиться к теме «лазерно-голографической парадигмы» Хакена, как ядра его метафизической исследовательской программы. Личностный топос Г.Хакена (его «рефлексивная площадка» в терминологии В.Е.Лепского) в системе трансдисциплинарных представлений задается его лазерно-голографической парадигмой, как некоего нового проблемного поля, возникающего в контексте осмысления лазера в качестве инструмента познания, представления и инициирования процессов самоорганизации в средах самых разных по своему «субстратному» составу, но сходных в их поведении «вблизи точек нестабильности».
По утверждению физика Грэхэма, являющегося коллегой и соратником Хакена, заслуга последнего состоит в понимании того факта, что лазер является не только важным технологическим инструментом, но и сам по себе представляет интереснейшую физическую систему, способную научить нас многому. Лазеры занимают очень интересную позицию между квантовым и классическим миром, и теория Хакена объясняет нам, как могут быть связаны между собой эти миры…. Лазер можно рассматривать как перекресток между классической и квантовой физикой, между равновесными и неравновесными феноменами, между фазовыми переходами и самоорганизацией, а так же между регулярной и хаотической динамикой. В то же время это система, которую мы понимаем как на микроскопическом квантово-механическом уровне, так и на макроскопическом классическом. Это устойчивая основа для изучения общих концепций неравновесной физики.
Итак, лазер это метафорический символ универсального коммуникативного посредника, инструмента постнеклассической практики познания и проектирования. В этом смысле «лазерно-голографическая парадигма» осознается как инструмент устранения коммуникативных барьеров, заменяя их различиями, пересечение которых порождает (эксплицирует) скрытый в них смысл. «Лазерно-голографическая парадигма», если воспользоваться термином Маслоу, «даоистична». Лазер-это не просто фонарик, освещающий одинокому путнику дорогу в кромешной мгле. Лазер генерирует когерентный свет, восстанавливающий из двумерных паттернов узоров/различий объемные образы становящегося во времени бытия. Тем самым лазерно-голографическая парадигма коррелятивно парадигме сложности. Или, еще, если пользоваться терминологией Э.Морена – «связующей парадигмы». Согласно Морену, «парадигма играет роль одновременно и глубинного слоя, и верховного уровня во всякой теории, доктрине или идеологии. Парадигма является бессознательной (курсив мой – В.А.), но она питает сознательное мышление, контролирует его, в этом смысле она является также сверхсознательной»43). Согласно Морену, «парадигма устанавливает те первичные отношения, в соответствии с которыми формулируются аксиомы, определяются понятия, протекают размышления и строятся теории». Парадигма есть то, что «организует их организацию и порождает их рождение или возрождение», она «осуществляет отбор, детерминирует построение концепций и логические операции». И далее Морэн рассматривает пример двух «противоположных парадигм», важный как сам по себе, так и для понимания сходства и различия понятий картина мира и парадигма. Противоположные парадигмы Морена выстраиваются в контексте отношения человек – природа. «Первая парадигма включает человека в природу, и всякое рассуждение, развернутое в ее рамках, превращает человека в природное существо и видит «человеческую природу». Вторая парадигма исходит из разделения этих двух терминов и, определяя специфику человека, исключает идею природы. Обе эти противоположные парадигмы сходны в том, что они, по сути, развертываются в рамках некоторой более широкой парадигмы – парадигмы упрощения, которая перед лицом всей концептуальной сложности предписывает или редукцию (человека к природному), или разделение (между человеком и природным) Обе эти парадигмы препятствуют пониманию двойственного единства (природное – культурное, мозговое – психическое) человеческого бытия, а так же мешают осознанию отношения одновременно причастности человека к природе и разделения человека и природы. Только сложная парадигма причастности/различения/соединения позволяет построить такую концепцию». Но, констатирует Морен, «она еще не вписана в научную культуру»44.
В этом контексте лазерно-голографическая парадигма дает нам возможность более операционально подойти к концептам наблюдатель-проектировщик сложности и инновационная среда, опираясь на лежащий в основе связующие принципы рекурсивности, дифференцируемости и коммуникативной. Хорошо известно, что понятие «парадигма» у Куна в высшей степени многозначно, что в свое время служило поводом для многочисленных критических замечаний. (Его критики насчитали более тридцати значений термина «парадигма» у Куна). Но в перечне этих значений есть, по крайней мере, одно для нас в данном случае весьма важное, хотя до сих пор остающееся в тени. Именно, парадигма – это коммуникативная среда, языковое коммуникативное пространство, в которую погружено научное сообщество, «подвешено», как любил говорить Н. Бор таким образом, что мы не знаем, где «верх» и где «низ» в этом пространстве.
Конечно, смена одной классической парадигмы монологического знания на другую для ученого, который годами вживался в нее, равнозначна смене места его обитания, смене обжитой им «экологической ниши». А это, как отмечалось выше, предполагает иной тип самотрансцендирования, чем тот, который практиковался им ранее. И переключиться на другой способ самотрансцендирования зачастую оказывается крайне трудно, если не невозможно. Отсюда коммуникативный разрыв разных поколений в науке, раскол, остро сознаваемая драматическая невозможность достижения необходимого интерсубъективного согласия и т. д. Поэтому вполне понятен разговор о разных несоизмеримых парадигмах, разных языковых онтологиях, разных мирах и/или пространствах, порождаемых употреблением разных языков. Хотелось бы, однако, дополнительно понять, когда именно этот разговор «уместен», а когда нет.
С этой точки зрения лазерно-голографическая операциональная парадигма в качестве порождающей онтологию сложностного бытия и претендующая на восстановление коммуникативной связанности парадигм прежних практик познания и проектирования, несомненно, этому пониманию «уместности» могла бы способствовать. Лазерно-голографическая парадигма создает качественно новую активную среду коммуникации.
«Но мир – не лазер» – как любит повторять Хакен. От универсалистских притязаний и иллюзий классической рациональности парадигма сложности, вслед за синергетикой, отказывается. Она заново открывает древний антропный принцип «Человек – мера всех вещей».
Мерой становления саморазвивающейся инновационной среды становится такая его ценностно-качественная характеристика, как «вочеловеченность» (Маслоу). Применительно к биологии и медицине он в этой связи пишет: «Размещение в едином, количественно измеримом пространстве человечности всех заболеваний, которыми заняты психиатры и терапевты, всех нарушений, которые дают пищу для раздумий экзистенциалистам, философам, религиозным мыслителям и социальным реформаторам, дает огромные теоретические и научные преимущества. Мало того, мы можем разместить в этом же континууме разнообразные виды здоровья, о которых мы уже знаем, в полной палитре их проявлений, как в пределах границ здоровья, так и за пределами оного – мы подразумеваем здесь проявления самотрансценденции мистического слияния с абсолютом и прочие проявления высочайших возможностей человеческой натуры, которое раскроет нам будущее». И эта «вочеловеченность» инновационной среды становится ключевой характеристикой, когда мы переходим к рассмотрению процессов синергийной конвергенции современных высоких технологий (NBICS), ставящих в качестве своей сверхзадачи радикальное преобразование природы человека, неограниченное никакими рамками его временное бытие.
И снова перед нами все тот же вопрос: свет лазера освещает нам путь в скрытой от нас сложностной реальности, или же он ее создает, вызывает эту реальность из небытия. Является ли она в своих различиях «реальной реальностью» или виртуальной реальностью. Естественной или искусственной. Конечно, после квантовой механики говорить об открываемом кем-то вообще, без ссылок на наблюдателя, его место и на те средства-приборы, с помощью которых он реализует само наблюдение, да еще не оговариваясь при этом, что открываемое – это наблюдаемое, созданное самим процессом наблюдения – значит быть в плену классического языка до квантовой эпохи. В сложностном мире, частью которого является и квантовый мир, нет неизменного наблюдателя; наблюдатель становится сложностным, он возникает в сложноорганизованном потоке актов коммуникации, коммуникативных событий. В этом мире вопрос: «Что является объектом и субъектом познания?» становится существенно контекстуальным. Выше уже говорилось, что никакого сложностного объекта познания, как такового, нет. Есть наблюдатель/дескриптор/проектировщик сложности, осознающий себя и другого как находящегося в ситуации, которая уникальна, контингентна и не поддается редукции к чему-то изначально простому. Знать – значит уметь вести себя адекватным образом в ситуациях, связанных с индивидуальными актами или кооперативными взаимодействиями. Эту мысль можно выразить несколько иначе, пользуясь метафорой лазера как коммуникативным познавательным средством. Наш «эпистемологический лазер» освещает своим высокоупорядоченным, когерентным светом не все вокруг в «независимо от нас существующей Вселенной», а селективно выделяет некую кооперативно взаимодействующую область узоров различий со сложной «топологией вырезания и склеивания», именуемую реальностью и описываемую в соответствующем языке таким образом, что бы это описание могло бы быть воспроизводимо и устойчиво коммуницировано «другому». Но пока лазер для нас выступает лишь как инструмент, хотя и с весьма необычными свойствами. Продвинуться дальше в осмыслении лазерной парадигмы нам может помочь обращение к пока еще мало освоенному философско-методологическому наследию Д.Бома, отдавшего в свое время много сил попыткам выстроить ту новую онтологию мира, ту сложностную реальность, которая «скрывается» за кулисами операционально представленного математического формализма квантовой механики. Чтобы нагляднее представить концепцию квантово-механической целостности и ее отличие от целостности, предполагаемой классически ориентированным познанием, начиная с эпохи Галилея и вплоть до Эйнштейна, Бом ввел представление о двух инструментально порожденных парадигмах научного познания: так называемую парадигму линзы и парадигму голограммы (или голографическую парадигму). Эта инновация не была должным образом оценена философами и методологами науки. Между тем Бом, различая названные парадигмы, сделал далеко идущую попытку учесть познавательные уроки квантовой механики, интегрально представленные в виде принципа рекурсивной связанности форм языка, способов наблюдения, инструментального контекста и теоретического понимания в исторической эволюции науки Нового времени. Это была попытка построить своеобразную «квантовую герменевтику» языка и прибора в ситуации, когда познающий в принципе не имеет прямого доступа к миру квантовых явлений и процессов. Исходным пунктом его рассуждений была линза как прибор и инструмент познания, который, в свою очередь, породил когерентный ему паттерн мышления, особенности которого до сих пор, несмотря на огромное число исследований философов и историков науки не полностью осознаны. Это, видимо, обусловлено так же и тем обстоятельством, что сам «линзовый тип мышления» во многом доминирует и на метауровне рассмотрения самой науки.
Достаточно тривиально, что линза есть инструмент формирования образа реальности в форме предметов, где каждая точка оригинала с высокой степенью точности соответствует точке образа. Это постулат геометрической оптики (а так же и волновой, в ее геометрическом приближении). Но не столь тривиально, однако, что благодаря своему «поточечному отображению» как базовой гносеологической модели переноса информации от исследуемого объекта к познающему его субъекту-наблюдателю, линза в огромной степени усиливает процесс «краевого» осознавания нами разных частей объекта как отдельных и отграниченных друг от друга паттернов и отношений между этими частями, тем самым, существенно затрудняя и/или искажая восприятие целого.
«Линзовая парадигма» – это разделительная парадигма. Она фиксирует предрасположенность, склонность мыслить в терминах классического порядка первичности анализа и вторичности синтеза, распространяя этот, сам по себе ограниченный, способ различающего мышления далеко за пределы его применимости.
Но уже теория относительности, а затем, в наибольшей степени, квантовая механика стали обнаруживать ограниченность возможности синтеза образов линзового мышления. Все более стала заявлять о своем, как бы неявном, существовании онтология целостности иной, немеханической, но и неорганической природы мироздания, описание которой невозможно представить в языке, который был бы когерентен инструментальному контексту классического линзового порядка, анализ и синтеза поточечных элементов, как хорошо определенных частей целостного образа.
Но если дело обстоит таким образом, то возникает естественный вопрос: а какой инструмент мог бы дать нам непосредственное представление о том инструментальном контексте, в рамках которого квантовая сложностность могла бы быть представленной самосогласованным образом.
Такое интуитивное представление возникает, если мы обратимся к голограмме как инструменту для записи «структурно дифференцированного целого». Что такое квантово-голографическая парадигма по Бому, становится понятнее из следующего краткого описания функциональной схемы того инструментального контекста, в котором она самоопределяется. Эта схема такова. Луч лазера падает на полупрозрачное зеркало, расщепляясь при этом на два луча. Одна часть непосредственно попадает на фотопластинку, другая – после отражения некоторой целостной структурой-оригиналом. В итоге на фотопластинке записывается так называемый интерференционный паттерн – сложный и тонкий узор запечатлённых событий, запомненный двумерный образ-паттерн оригинала, соотносимый с ним уже не поточечно, как в линзе, а некоторым более сложным образом. Это соответствие или соотнесение обнаруживается только при освещении голограммы лазерным светом. При этом воссоздается волновой фронт, подобный форме волнового фронта, идущего от исходной целостной структуры, и мы можем в некотором диапазоне возможных перспектив (точек зрения) видеть исходную целостную структуру в трехмерном ее представлении. Мы будем видеть ее и в том случае, если осветить лазерным светом только часть фотопластинки. Интерференционный узор даже в весьма небольшой области фотопластинки имеет отношение к все её целостной структуре, а каждая часть оригинала имеет отношение ко всему узору на фотопластинке.
Так мы приходим к представлению о лазерно-голографической парадигме как парадигме сложности саморазвивающейся инновационной среды, где по части может достроиться (самоорганизоваться) эмерджентное целое. Мы приходим к представлению о среде, имеющей распределенную виртуальную голографическую память, осмысленную информацию из которой мы можем извлечь с помощью источника когерентного лазерного света, заняв при этом позицию трансцендентального наблюдателя, синетезирующего некий многомерный интегральный образ объекта как самоорганизацию частичных образов, создаваемых частичными наблюдателями-участниками внутри конуса перспектив укорененных в самом оригинале.
Вот такая «автопоэтическая» онтология саморазвивающейся инновационной среды в принципе, может быть выведена из соответствующим образом интерпретированных утверждений, что «лазер – маяк синергетики» и что «мир – это не лазер», но лазер – это часть нашего мира. Конечно, таких онтологий может быть построено достаточно много.
И, наконец, приведем ряд соображений по поводу включения состояний сознания в парадигму синергетической сложности и ее главного концептуального персонажа – наблюдателя/проектровщика сложности как распознавателя различий и их создателя. Здесь обращают на себя внимание последние работы Г.Хакена и его коллеги географа и урбаниста Дж. Португали, а так же Алана Комбса.
Подчеркивая, что «синергетика фокусирует свое внимание на ситуациях, в которых развиваются новые структуры», Г.Хакен строит синергетику процессов наблюдения (то есть, своего рода синергетику второго порядка) как единый процесс распознавания образов, их конструирования, и принятия решений в окрестности точек бифуркации. Переход к синергетике наблюдения как распознавания и конструирования образов и процессов принятия решений проще всего демонстрируется посредством аналогии между процессом распознавания образа ассоциативной памятью и процессом формирования динамических паттернов в жидкости, нагреваемой снизу (эффект образования ячеек Бенара). Эта аналогия сопоставляет два процесса: 1) некоторые части системы находятся в упорядоченном состоянии, они могут генерировать параметр порядка, который, в свою очередь, подчиняет остальную часть системы так, чтобы вся система была приведена в упорядоченное состояние; 2) когда даны некоторые особенности образа, они генерируют свой параметр порядка, который, в свою очередь, подчиняет общую систему (человеческий мозг или компьютер) и вынуждает дополнять остальную часть оставшимися деталями.
Предложенный Хакеном синергетический подход к процессу распознавания образа открыл интересные возможности для конструирования концептуальной рамки для изучения механизмов построения так называемых когнитивных карт. Эта концепция была сначала реализована Дж. Португали и далее разработана им совместно с Хакеном. Суть ее в том, что когнитивная система, связанная с когнитивными картами, конструирует или формирует целый образ/карту на основе неполного, только частичного набора его особенностей, На языке синергетики можно сказать, что неполный набор особенностей окружения, предъявленный когнитивной системе, вызывает соревнование между несколькими возможными конфигурациями особенностей и их параметрами порядка, продолжающееся до победы одного из них и подчинения системы благодаря созданию новой когнитивной карты.
Между процессами распознавания образа и построением когнитивной карты существует важное отличие. При распознавании, например, лица цель состоит в том, что бы использовать частичный набор некоторых особенностей, данных системе для его распознавания, из репертуара известных и сохраненных лиц. В когнитивных картах цель состоит в том, что бы создать первоначально неизвестный образ/карту из неполного набора особенностей некоторого окружения. При распознавании образа мы обычно имеем дело с одной модальностью. При распознавании лица, например, это – зрительная система. В когнитивных картах мы обычно имеем дело с несколькими модальностями.
Человек рождается в среде, которая уже самоорганизована и подчинена некоторым параметрам порядка, образующим, согласно К.Попперу, некий третий мир идеальных сущностей и предопределенностей, обусловливающих (в некотором смысле телеологически) паттерны процессов, в которые мы, так или иначе, оказываемся вовлеченными. Таким образом, индивид создает свою когнитивную карту не только на основе конкуренции внутренних параметров порядка данного набора деталей окружения, а уже, будучи подчиненным одному или нескольким их этих параметров или более глобальным представлениям. Такое синергетическое представление когнитивных карт придает больший вес внешней среде и внешней когнитивной памяти, чем это традиционно признается в когнитивных науках, хотя у таких ученых, как Выготский или Гибсон, идея о том, что когнитивная система человека есть внутренне-внешняя сеть, где некоторые из элементов представлены или хранятся внутри психики (мозга), а некоторые во внешней среде, всегда занимала ведущее место.
Таким образом, вместо обычного процесса формирования (самоорганизации) паттерна (структуры), при котором параметры порядка подчиняют некоторые внешние по отношению к наблюдателю подсистемы (синергетика 1), и обычного процесса распознавания образа, при котором параметр порядка подчиняет некоторые внутренние детали образа в сознании (синергетика-2 – синергетика наблюдения), мы имеем здесь конструктивно-сопряженный циклический процесс становления параметров порядка, которые подчиняют и внешне представленные подсистемы, и внутренние ансамбли психических состояний.
Здесь мы опять имеем дело с синергетикой сложности – синергетикой процессов конструирования человеком окружающей его среды как автопоэтического саморазличающего процесса. Мы полагаем, что такой взгляд, рассматривающий эволюцию человека как процесс, стрела которого направлена в сторону роста собственной сложности, позволяет с позиций обобщенной постнеклассической рациональности более осознанно подойти к разработке новых социогуманитарных технологий конструирования инновационных смыслопорождающих различий, особенно в сфере конвергенции (но не слиянии) современных высоких технологий. В этой области предстоит еще большая работа, в частности, работа, связанная с пониманием сознания как самопорождающей (автопоэтической) системы, находящейся в процессе рекурсивного самосозидания как непосредственно самой себя, так и в его (сознания) вовлеченности в творческую деятельность, направленную «вовне», на созидание жизненного мира человека, его жизненной среды, его Umwelt. И здесь мы опять имеем дело с ситуацией различения внешнего и внутреннего, наблюдателей распознающего и созидающего в их рекурсивном взаимном сопряжении. В их парном танце.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в проекте проведения научных исследований «Методологические основы организации саморазвивающихся инновационных сред», проект № 11-03-00787а.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.