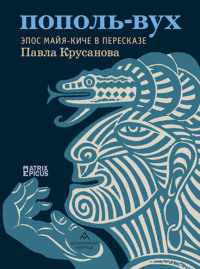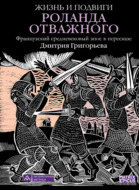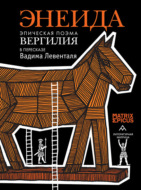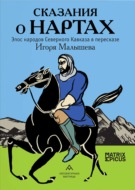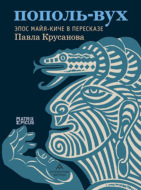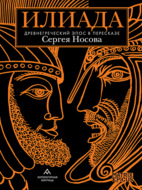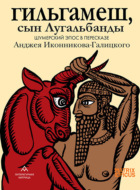Buch lesen: "Пополь-Вух. Эпос майя-киче"
Издано при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
© П. Крусанов, пересказ, 2024
© ООО «Литературная матрица», 2024
© ООО «Литературная матрица», макет, 2024
© А. Веселов, иллюстрации, оформление, 2024
Предисловие
Эпосам народов доколумбовой Америки в плане их сбережения, изучения, научной и художественной интерпретации, увы, повезло куда меньше, чем эпосам народов Старого Света. Поэмы Гомера, германо-скандинавские сказания, рыцари Круглого стола, богатыри русских былин, не говоря уже о «Рамаяне» и тучной «Махабхарате», давно и прочно вошли в культурный обиход на всём пространстве глобуса – поэтов всех племён то и дело призывает «к священной жертве Аполлон», учёные и темпераментные любители исследуют в многомудрых трудах «старосветскую» эпику на предмет исторического основания, энтомологи нарекают своих подопечных именами античных героев, богов и богинь, композиторы, вдохновлённые Зигфридом и Садко, кладут былинные сюжеты на музыку, художники – от Брейгеля Старшего с «Вавилонской башней» до Дмитрия Шагина с «Икарушкой» – теребят мифологию, как материнскую грудь, кинорежиссёры Голливуда и Болливуда без устали трудятся над вульгаризацией Артурова рыцарства, скандинавского пантеона и роковых конфликтов «Махабхараты». В сравнении с этим пёстрым совокупным корпусом всё, что известно широкой публике об эпическом наследии Нового Света, – крохи, писк замученной птички.
А между тем археологическая наука свидетельствует, что к тому времени, когда экспедиция Эрнана Кортеса впервые увидела дамбы, мосты и храмы ацтекской озёрной столицы Теночтитлана, история цивилизации индейцев Центральной Америки уже насчитывала три с лишним тысячелетия. Ещё до нашей эры здесь возводились величественные здания, украшенные каменными изваяниями, смотрели в небеса обсерватории, где велись наблюдения за небесными светилами, был свой календарь и своя письменность, честь изобретения которой по сложившейся традиции приписывается полулегендарным ольмекам.
Способ письма древних центральноамериканских народов был одновременно пиктографическим и идеографическим, то есть предметы и понятия обозначались в нём теми или иными условными изображениями. Свой окончательный вид эта рисуночная письменность приобрела у индейцев майя – их иероглифические надписи сохранились на керамике и каменных жреческих стелах. Кроме того, испанские летописцы времён Конкисты не раз упоминали о виденных ими многочисленных иероглифических манускриптах, однако на сегодняшний день учёные располагают лишь немногим более десятка таких рукописей, именуемых кодексами, и далеко не все они поддались прочтению. (Впервые четыре кодекса майя были расшифрованы нашим соотечественником Ю. В. Кнорозовым; эти тексты, по его выражению, оказались своего рода «требниками» индейских жрецов – руководствами по проведению ритуалов.)
Расцвет культуры майя пришёлся на первые века нашей эры. В те времена их города украшали циклопические храмы-пирамиды, прямые улицы, широкие площади и дворцы знати, насчитывавшие до пяти этажей, а их жрецы в своих обсерваториях производили кропотливые вычисления продолжительности солнечного года, на основе которых составили календарь, точностью превосходящий тот, который до сих пор используем мы. Однако к IX веку все плоды этой цветущей цивилизации остались в прошлом – жители покидают свои города, и те превращаются в заросшие пышным лесом руины…
Дело в том, что Центральная Америка той поры, как несколькими веками ранее Европа, переживала своё «великое переселение народов». С севера на эти земли волна за волной – тольтеки, тепанеки, ацтеки – накатывают кочевые орды, которые разрушают прежние цивилизации с их центрами культуры и ремёсел. Былое жреческое сословие исчезает, а вместе с ним – накопленные знания по астрономии, архитектуре, мелиорации, медицине, истории… Как пал в своё время под натиском варварских племён Рим, так пали и древние города майя. И точно так же на месте павших цитаделей цивилизации завоеватели, принося с собой новые культы и ритуалы, принялись создавать свои «варварские королевства». Нельзя утверждать, что прежние хозяева этой земли не практиковали кровавые жертвоприношения – известны барельефы древних майя, изображающие ритуальные кровопускания их владык, – но отныне священной жертвой признаётся не только кровь повелителей, но человеческая кровь как таковая. Теперь основным сюжетом, вырезаемым на камнях и отображаемым в храмовой скульптуре, становятся человеческие жертвоприношения – без них мир замрёт, разгневанные небеса остановят размеренный ход светил, и кара богов падёт на нерадивые народы.
Первыми новое государство на руинах былого величия майя создают тольтеки, во главе которых стоит легендарный правитель Кетцалькоатль. Империю тольтеков можно было бы сравнить с империей Шарлеманя (Карла Великого), ибо и та и другая впоследствии подверглись мифологизации, и каждая стала для местных культур олицетворением героической эпохи, когда отважные вожди свершали свои славные дела и невероятные подвиги. Толлан (Тулан на языке киче), столица тольтеков, до сих пор бытует в легендах центральноамериканских племён как колыбель народов, как средоточие силы и знаний – именно там обретают своих богов прародители народа киче, о чём повествует эпос «Пополь-Вух», и именно там первые правители киче получают знаки своей царской власти.
Однако прежде чем непосредственно перейти к рассказу о «Пополь-Вух», ещё немного предыстории.
После новой волны переселений на территории распавшейся империи тольтеков образуются государства аколуа и тепанеков, а в XIII веке на Центрально-Мексиканское плато приходят ацтеки. Со временем ацтекам, дикарям в сравнении с уже живущими здесь народами, как некогда явившимся в Европу гуннам Аттилы, удалось сокрушить все соседние царства и полностью завладеть долиной Мехико. Что же дальше? У Горация есть строки: «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, в Лаций суровый внеся искусства…» То же происходит и тут – покорённые народы, обладающие более высокой культурой, нежели воинственные пришельцы, цивилизовывают поработителей.
В период расцвета своей империи ацтеки весьма ценили различные искусства – не только изобразительные и пластические, но и те, что были связаны с музыкой и поэтическим словом. Так, скажем, среди различных хозяйственных и церемониальных должностей при императорском дворе имелась и должность «хранителя», в задачи которого входило наблюдение за сохранением (путём записи писцами) уже известных исторических, мифологических и поэтических текстов, а также ознакомление с новыми. В специальных залах, предусмотренных во дворцах сановников, проводились песенные состязания, подобные состязаниям трубадуров и жонглёров в замках Окситании. Исследователи месоамериканских доколумбовых культур сообщают о случае, когда осуждённый на смерть родственник одного из ацтекских владык был помилован за песню, которую сочинил во время приготовления к казни. Как тут не вспомнить китайского поэта Цао Чжи и его знаменитые «Стихи за семь шагов»!
Именно такой, на пике своего цветения, застал империю ацтеков Кортес, когда в ноябре 1519 года со своим отрядом был принят в Теночтитлане императором Монтекусомой Шокойцином (в испанских хрониках – Монтесума II) и получил от него в дар множество золотых украшений.
То, что последовало за этой встречей, общеизвестно. Пока конкистадоры отдыхали от долгого перехода в отведённом им дворце, ацтекский отряд напал на Веракрус, портовую базу Кортеса на побережье, после чего Монтекусома был взят испанцами в заложники. Опустим подробности и сразу перейдём к итогу: через два года после прихода испанцев в Теночтитлан обширная империя ацтеков перестала существовать.
Не миновала подобная судьба и переживших своё былое величие майя – вскоре Педро Альварадо, один из сподвижников Кортеса, покорил горные области Центральной Америки, где ныне расположены государства Гватемала, Сальвадор и Гондурас. Последними пали майя Юкатана, чьи земли окончательно присоединил к владениям испанской короны в 1544 году ещё один соратник Кортеса – Франсиско де Монтехо.
На территории Гватемалы в ту пору располагалось государство индейцев киче, равно как и ряд других государств, чьи народы, то враждовавшие между собой, то объединявшиеся в союзы, входили в одну большую языковую семью майя. Благодаря ему, народу майя-киче, мы и имеем сегодня в мировой сокровищнице эпосов эту жемчужину – памятник древней индейской литературы «Пополь-Вух» (на языке киче – «Книга народа» или «Книга Совета»).
История обретения этой рукописи достойна особого внимания. Монах-доминиканец Франсиско Хименес, прибывший в 1688 году в Гватемалу из Испании, чтобы нести индейцам Слово Божие, получил приход в селении под названием Санто-Томас-Чувила (сейчас – Чичикастенанго). Живя среди индейцев, он изучал их язык, историю и культуру, составив несколько обширных трудов, посвящённых этим вопросам. Проникшись доверием к Хименесу, однажды местные жители показали ему манускрипт, нечто вроде своей «священной книги», написанной латиницей на языке киче. По свидетельству индейцев, манускрипт был составлен одним из представителей царского дома Кавека (судя по приведённым в тексте родословным владык киче, где правитель Хуан Кортес упоминается как живой, запись сделана между 1554 и 1558 годами) и до сей поры в тайне от испанцев хранился у его потомков. За два года (с 1701-го по 1703-й) Хименес скопировал рукопись, снабдив её черновым переводом. Окончательный перевод «Пополь-Вух» с языка киче на испанский был сделан им только пятнадцать лет спустя, когда Хименес стал настоятелем монастыря Санто-Доминго в Сакапуласе. После смерти Хименеса его труды, включая рукопись «Пополь-Вух», сто лет пребывали в забвении на полках монастырской библиотеки, а в 1829 году были переданы католическому университету Сан-Карлос в городе Гватемала.
Здесь они попадаются на глаза Карлу Шерцеру, австрийскому дипломату и учёному, предпринявшему в 1854 году поездку по странам Центральной Америки с целью поиска и изучения старинных испанских хроник. Шерцер заинтересовался одной из рукописей Хименеса, содержащей некий оригинальный текст на языке киче и его перевод на испанский. Скопировав текст перевода, Шерцер опубликовал его в 1857 году в Вене.
Вслед за австрийцем Шерцером рукопись эпических сказаний киче обнаруживает французский миссионер Шарль-Этьен Брассёр де Бурбур, приобщавший индейцев к Священному Писанию в гватемальском селении Рабиналь и одновременно собиравший материал по истории доколумбовых цивилизаций Центральной Америки. Здесь в 1855 году он приобретает у одного из представителей индейской знати рукопись Хименеса с оригиналом текста на языке киче и параллельным переводом на испанский (была ли это та же самая рукопись, которую видел Шерцер, попавшая каким-то образом из библиотеки университета Сан-Карлос в Рабиналь, или второй её список, неизвестно). В 1861 году Брассёр де Бурбур опубликовал в Париже полный текст рукописи на киче с переводом на французский язык. Этот труд он озаглавил «Пополь-Вух, священные письмена киче». В этом издании текст впервые разбивается на части и главы – в оригинале он был записан без разделений, строка за строкой (в настоящее время рукопись Хименеса, приобретённая Брассёром де Бурбур в Рабинале, хранится в библиотеке Ньюберри в Чикаго). Начиная с парижского издания де Бурбура открывается история научного изучения этого удивительного эпоса.
Что же представляет собой «Пополь-Вух», загадочная «Книга народа» индейцев киче, о которой Хименес сообщает: «Эта рукопись хранится у них с такой секретностью, что никто из других священников и не знал о ней. Я обнаружил, что это сочинение они впитывали чуть ли не с молоком матери и что все они знали его почти что наизусть…»? Содержание её неоднородно, поскольку собранные в ней сказания имеют разное происхождение. Помимо космогонических и героических мифов, тут есть исторические предания, а также генеалогия знатных родов киче времён майя постклассического периода – той поры, когда их высокая культура практически угасла.
В первой книге «Пополь-Вух» повествуется о Сотворении мира – гор, лесов, зверей и птиц, а также о двух неудачных попытках сотворить человека, которого боги сначала создают из глины, а потом из дерева. Кроме того, эта часть содержит рассказ о своего рода «титаномахии» – чудесные близнецы Хун-Ахпу и Шбаланке, по благословению верховных божеств, убивают могучих существ, возомнивших себя солнцем, луной и творцами мироздания.
Во второй книге собраны предания о том, как старшая и младшая пары божественных близнецов вступают в противоборство с демонами преисподней (Шибальбы). Герои играют в мяч с владыками подземного мира, после чего подвергаются смертельным испытаниям. Старшая пара близнецов (Хун-Хун-Ахпу и Вукуб-Хун-Ахпу) не выдерживает испытаний, и владыки Шибальбы приносят их в жертву на площадке для игры в мяч. Голову Хун-Хун-Ахпу вешают на ветку тыквенного дерева, и от слюны, капнувшей из мёртвого рта, дочь одного из демонов преисподней зачинает вторую пару близнецов – Хун-Ахпу и Шбаланке. Герои вновь спускаются в Шибальбу, с честью проходят все испытания, играют с владыками подземного мира в мяч, побеждают их, проходят испытание через смерть и возрождение, убивают повелителей Шибальбы и возносятся на небо, обратившись в солнце и луну.
Третья книга эпоса рассказывает о последней, успешной, попытке создания богами человека из маисовой муки, о происхождении народов и о прародителях киче – обретении ими родовых богов и скитаниях по земле в поисках своего удела.
В завершающей, четвертой книге повествуется о надлежащих жертвоприношениях богам, покорении вождями киче соседних племён, строительстве новых городов, а также даётся генеалогия правящих родов киче от легендарных праотцов до времени прихода в их земли испанцев.
Таково вкратце содержание этого необычного текста. Вопрос о том, существовали или нет до испанского завоевания иероглифические записи отдельных частей «Пополь-Вух», до сих пор остаётся в научных кругах дискуссионным. Хотя повествователь «Книги народа» неоднократно упоминает некий источник истины, священную книгу, которой владели в древности правители киче, однако впоследствии она была утрачена. Вопрос о стихотворной (ритмической) структуре текста первоисточника также дискуссионен, хотя мировое эпическое наследие свидетельствует в пользу того, что изначально былинный текст, как правило, ритмически организован, поскольку в таком виде легче запоминается, что существенно, учитывая устную сказительную традицию, всегда предшествующую записи того или иного эпического памятника.
На данный момент «Пополь-Вух» служит основным источником для изучения мифологии майя, отражённой также в изображениях на майяской керамике классического периода (II–IX вв.). Надо сказать, что перевод «Пополь-Вух» сопряжён с определёнными объективными трудностями, основная и достаточная из которых состоит в том, что многие эпизоды из этой книги были непонятны уже Хименесу и де Бурбуру. Отсюда искушение для переводчика – вольно интерпретировать туманный смысл оригинала либо опускать неясные места вовсе. Именно так, вдохновенно поддавшись искушению и напуская ещё более тумана, а также позволяя себе временами произвольные сокращения, отнёсся к переводу «Пополь-Вух» на русский язык Константин Бальмонт – свою труднопроницаемую версию эпоса киче он опубликовал в 1910 году в сборнике «Змеиные цветы».
Первый научный комментированный перевод «Пополь-Вух» на русский язык был сделан в 1959 году историком и этнографом Ростиславом Васильевичем Кинжаловым. Потом появились и другие, ныне свободно представленные в сети Интернет. Однако именно перевод Кинжалова лёг в основу нашего пересказа этой необычайной истории. Хотя, сказать по чести, и здесь нам встретилось немало тёмных мест, часть которых, доверясь озарению и сплюнув через левое плечо, мы отважились прояснить.
Зачем мы взялись за это? За окном гудит ветер, деревья, наряженные в багрянец и охру, кланяются осени. Жизнь идёт своим чередом, равнодушно, без печали хороня день вчерашний. Казалось бы, к чему нам дремучий Гильгамеш? Какое дело нам до Гектора с Ахиллом? Что нам далёкие Хун-Ахпу и Шбаланке? Но шелестят страницы, текут, как сок в ветвях, в строках слова, и посреди увядающей осени книга расцветает пряным цветком, от аромата которого замирает дыхание.