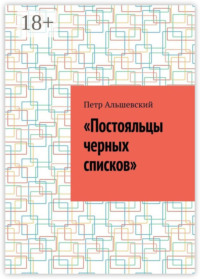Buch lesen: "«Постояльцы черных списков»"
© Петр Альшевский, 2021
ISBN 978-5-0055-3216-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
1
Он жил только во сне. Его дух бодрствовал только там – не во сне, как в промежутке между бесполезной явью, а во снах, как в месте своей настоящей жизни.
Во снах он не просто существовал: там он мостил Сарезское озеро золотыми перьями суровых грифов, овладевал на остывшей печи пухлой императорской дочерью и на голодный желудок брался за незаконченный реквием Моцарта. Доработав его при помощи божественных советов никогда не открывавших рта троллей, он опережал Фарадея и находил связь между светом и магнетизмом уже сам, приписывая эту заслугу лишь знаменитой корсарке Мэри Рид, пошедшей ради своего возлюбленного на заранее проигранную дуэль и силой развернувшую судьбу к себе лицом.
Исключительно в сновидениях он взбирался на горы Тайгета, чтобы принести в жертву Гелиосу-солнцу специально отобранных для него лошадей; переносил жестокие побои Искупляющей палкой и не отступал под яростным смерчем непобедимой конницы Такеда Сингена, продолжая чувствовать пряный аромат жизни: чарующую смесь тимьяна и миндаля.
И именно во сне он увидел, как, вдыхая аромат несвободы, распространяющийся в когда-то принадлежащем ему городе в строгих рамках геометрической прогрессии, святой Мимиан ощутил сладкое желание вернуть этим улицам их былое величие.
Сладкое одиночество желания.
Былое величие. Вернуть!
Ему нечего ждать от наступающей ночи. Скептицизм – это не его движущая сила, и, не проверяя покаянием истинность новозаветного писания, святой Мимиан в клочья разорвал свои ноздри.
Заявляя на святого Мимиана в полицию, некоторые горожане написали горячим гноем на полувековой бересте о безумии прежнего хозяина, не нашедшего себе лучшего применения, кроме как скандально нарушать нетленность установившегося в них покоя.
Полиция приехала на кастрированных верблюдах. Посоветовавшись с искусственным разумом коменданта, она решила не передавать святого Мимиана под опеку медлительного правосудия и отвела его за ему же воздвигнутый памятник, где он был запечатлен с пока еще стоящими крыльями и в походной треуголке так и не взявшего этот город корсиканца.
Два, три выстрела и все проблемы улажены: Святой Мимиан не роптал. После первой же пули он, по-кошачьи цепляясь за облака, уже возвращался на небо – следивший за Мимианом тактик за ним не последовал. Он кричал, сочувствовал, но по итогам событий той ночи перестал видеть сны.
Немного подождав их исцеляющего возвращения, он сознался себя в своей смерти.
Он умер.
Не насмерть, но умер.
Едва ли будучи Антоном «Бурлаком» Евгленовым
Неженатым, уравновешанным, когда-то родившимся в Царицыно мужчиной тридцати двух лет.
Бог любит всех нас. Самого Творца любят далеко не все – Антон Евгленов любил деньги; любил, любит и сколько бы Антона ни взывали опомниться, будет любить.
У него их немного, но он любит и те, что есть. Но сделать так, чтобы их стало у него больше, Антон «Бурлак» Евгленов осмысленно не желает. Не берется, понимая: если их у него станет больше, не хватит у него тогда на них любви. Пока их у него немного, любви у Антона Евгленова хватает, а когда станет больше, может, и не хватить. И он довольствуется теми, на которые у него достаточно любви: раскладывает на столе немногочисленные купюры и присыпает ее сверху покатой горкой из мелких монет.
Сидит, любуется, у Антона Евгленова ординарные мысли – совершенно не похожие на: «куда бы все это пошло, решись дева Мария на аборт?»; у Антона ровное дыхание, и ему уже не страшно продираться по пятам за смертью. Без капитала – с пороками… неунывая: сквозь бурелом жизни.
Его эта гонка.
Антона «Бурлака» Евгленова.
В июне он в бесславии, но не в бесчестии, живет за городом на природе. На крыльце у Антона Евгленова прогнила одна доска; он на нее наступил и почувствовал: меня не обездушишь… покойника не растормошишь, доска скоро сломается, а следом за ней что-нибудь сломается и у меня, она же сломается подо мной, сломается непременно; летая в космос прямо на кровати, Евгленов ее не меняет. В его жизни, за исключением этой доски, все складывается довольно неплохо, и «Бурлак» Евгленов отдает себе отчет: если я заменю эту доску, тем самым еще более улучшив свою жизнь, то в ней обязательно случится какая-нибудь гадость. Нарушится нынешнее статус-кво – хорошего в ней прибавится, но хорошее мою жизнь и покинет.
Я пошел по рукам – это санкционировала ты; прикоснувшись к прекрасному, я часто обращался за невралгической помощью и напивался в умат со своей ворчливой племянницей: не докручивай меня до конца. Ключ погнешь…
Что тут… ничего. Ногу Антон Евгленов все-таки сломал.
Собравшийся с силами товарищ попросил Антона поехать вместе с ним в магазин стройматериалов – суть дела у запальчивого экумениста Николая Семеновича Жакова так же касалось крыльца; он собирался украсить свое крыльцо витиеватыми балясинами, и Антон Евгленов был ему нужен для того, чтобы по мере возможностей поучаствовать в выборе. Кивком и советом – не дозируя их многолетнее знакомство.
– В моей жизни были разные женщины, – сказал неуверенно ведущий красную «Ниву» Николай Жаков, – но в прошлом году я ездил в Ленинград и завоевал уважение у одной сексапильной банковской служащей. Она привела меня к себе и стала возбуждать ногой: проводит ей по тому месту, откуда у меня обычно встает… tutti frutti, всему свой час… обоюдная любовь – это не то, что сплошь и рядом; в тот раз у меня ничего не встало: она же возбуждала меня ногой в коньке – от ужаса у меня все онемело, а она надевает пояс с пластмассовым членом…
– Ты про дорогу все же не забывай, – попытался вернуть его в реальность Антон Евгленов.
– Я, Бурлак, и не забываю. На крестном ходе ты бы нес свечку, а я кадило – жаркое дуновение очередного поворотного момента… для работы на урановых рудниках абсолютно ни к чему иметь углубленное знание кабинетных теорий труда – когда она одела этой пояс, я постарался хотя бы встать с кровати и… ё-ёё…! Ты куда… А-аа!
Порядочность Аллаха считается в Коране одним из Его основных качеств. В часовне на высокой горе нас примет седовласый исцелитель душевнобольных. На тридцатом километре Каширского шоссе Николай Жаков попал в ДТП, после чего Николаю Семеновичу не до балясин. Ссадины, порезы, гематомы; у «Бурлака» Евгленова повреждения, к счастью, не столь разнообразны: у него сломана нога. Ну, еще и ключица.
Штормовому предупреждению не увести меня с улиц. Проложить дорогу с кладбища сложнее, чем на кладбище; околевшая лошадь, мертвая скотина, вижу, не слепой, не Андрей Винитин, в раболепном онемение перед монотонностью бытия я ни за что не умру в иночестве; прогнившую доску Евгленов вскоре заменил.
Не мной нарушено статус-кво, иронично злобствуя, подумал он, но, провались подо мной эта прогнившая доска, я, даже беря по максимуму, сломал бы лишь ногу бы, а тут еще и ключица – теперь меня в моей жизни должны компенсировать чем-нибудь позитивным.
Но тот, кто должен, он же никому ничего не должен. Из него не выбить долгов: ни мне, ни кулачному бойцу Перевару Кукуше, ни туповатым людям Тони Сопрано; задолжал он, конечно же, многим, но толку-то?
Ладно, пусть, нам надо жить с Ним в обоюдном снисхождении. Без обид и претензий. В основном, делая ставку на прощение.
Со сломанной ногой Антон Евгленов курит «Приму», набивает полный рот горячим нефильтрованным дымом; продирая себя самогипнозом, лежит. В Москве. Там же в эти дни и его неблизкий сосед по даче Фролов, от которого все отшатнулись: бедный и скромный.
Ваш девиз, господин Фролов?
Только на месте. Ни вперед, ни назад.
Фролов еще раз глотнул омерзительной комнатной фанты и на него хлынули болеутоляющие невнятности: долго ли мне осталось? надо ли, чтобы долго? сердце щемит, мозги отдыхают? он стоит под чьими-то окнами, и одно из них безвкусно скрипит. Минуты исконно русского философствования, сомнительный дар прозрения; Фролов располагается внизу, пессимистично размышляя: открыли, держат открытым и сейчас что-нибудь на меня сбросят. У меня, наверное, такая планида – приехал на Проспект Мира устраиваться на работу, задумался о миграции северных оленей и получай.
Фролов весь сжался. Окно за его спиной снова скрипит – теперь оно уже закрывается, но Фролову неспокойно: похоже, они на меня ничего не сбросили. Здесь происходит что-то странное, на задней стороне моей шеи почему-то мокро, не вспотел ли я от страха? нет, только на ней и мокро; задирая куртку и подтягивая штаны, Фролов догадался: они же открывали окно, чтобы из него сплюнуть – сплюнули и закрыли, а сплюнули они мне на шею: на ее заднюю сторону. Но шею я оботру и без посторонней помощи. Как же хорошо, что на меня лишь плевок из окна сбросили – это намного терпимей, чем если бы что-нибудь еще.
Темнеет, холодает, и мысли складываются в путь. Под шарфом ходит кадык. Фролов привык обходиться без резных перил – она симпатична, но мне безразлична: хо-хо, хо-хо, птицы, рыбы, птицы, птицы, рыбы! птицы, рыбы! рыбы!! птицы! с рыбами в клювах. Окстись, безумец. Успокойтесь, Фролов – чтобы привлечь их внимание, лучше сразу расстегнуть штаны и показать, что там у вас есть.
На Моховой меня один раз за это уже забирали.
Не устроившись на работу, Фролов приехал на дачу и доверился своему пониманию неизбежного. На небе тысячи звезд – находясь в другой галактике, Фролов бы видел их сотни тысяч; с Земли, по сравнению с ними плохая видимость, но Фролов на земле, он в этой галактике – в галактике, где есть жизнь.
В других галактиках жизни нет, но там нет и смерти; принесут ли ему облегчение походы во сне к подкладистой девушке-медиуму? не начать ли Фролову понемногу пыхтеть на пятнадцатикилометровых кроссах? из одного московского окна на него сплюнули. Одна из звезд красиво падает. Фролов твердо стоит в бездорожной жиже и не загадывает никакого желания. Не хочет им никого обременять.
Фролов безусловно не против, чтобы его бывшая жена разрешила ему почаще видеться с сыном, но если все так сложилось, значит Господь написал ему на роду именно это, а звезда… звезда… я и в этом профан; кого-то закидывают цветами, кого-то камнями, мне не удалось завести масштабных друзей, и звезда, которая красиво падает – она не звезда.
Фролов внимательней всмотрелся и у него не осталось ни малейших сомнений. Не звезда, ничуть не звезда: падающий самолет.
И Фролову приятно: здраво я поступил, не загадав желания – люди на этом самолете с минуты на минуту познакомятся со следующей особенностью нашей планеты, у нас же не только жизнь, но и смерть, и я бы выглядел бесчеловечно, если бы загадал желание при виде падающей звезды; к тому же она не звезда, а утративший управление сказкой пассажирский самолет.
Небезынтересной сказкой.
Кончается для людей на нем сказка.
Отныне им предстоит заслуженная быль.
Ее заслужили и они. Они здесь вдвоем: сошедшая с дистанции фотомодель Людмила Канапина и слепой Андрей Винитин, сказавший в связи с травмированной конечностью «Бурлака» Евгленова: много бы я отдал, чтобы увидеть свою сломанную ногу. И ногу бы отдал, и некоторую часть потенции. Да что там жадничать – всей бы не пожалел.
Людмилу попросили провести с ним этот вечер и она смотрит на то, как он смотрит в аквариум; Андрей Винитин ничего не видит. Рыбок в аквариуме никто не учил плавать на спине. В комнате нестерпимо жарко.
– Мы с вами, – сдержанно заметил Андрей, – даже не одного пола, но я вам все же скажу: это я сделал, не подумав.
– Что это? – спросила она.
– Не застрелился. Вчера.
В Людмиле Канапиной еще не все расслабилось, и она безапелляционно верит: смерть придет за всеми. Не застрелившись, Андрей почти не проиграет.
– Не удалось вчера, стреляйтесь сегодня, – сказала она. – Я даже помогу вам найти пистолет.
– Нет, сегодня я не буду стреляться, – сказал Андрей.
– Ваше право.
– Сегодня уже поздно, – посмотрев на аквариум, невесело произнес Винитин. – Поздно, слишком поздно.
– Почему? – спросила она.
– Жить хочу.
Не противодействуя мазохистскому предвкушению долгого дня, Винитин по-прежнему не отводит взгляд от аквариума. Людмила Канапина думает, что у слепых своя логика и начинает в подробностях вспоминать как в прошлом августе она ездила в Новороссийск; деньги на отпуск лежали у нее в нагрудном кармане джинсовой рубашки, в купе помимо нее находились два мужчины и женщина: все они были ей незнакомы и, когда один из мужчин вместе со вспыльчивой дамой ушли пить в соседнее купе, оставшийся господин, рассказывавший ей до отправления поезда о конъектуре радикализма, подсел к ней вплотную, облизал Людмиле щеки, стал ласкать за грудь и расстегивать пуговицы ее рубашки; поддавшись его мягкой агрессии, Людмила Канапина не обращала внимания на то, что он расстегнул и ту пуговицу, которая преграждала ему путь в карман с ее деньгами. Она не могла поддерживать в себе былую осмотрительность. Сняв с Людмилы рубашку, Аркадий Кайков с противоречивым выражением лица выбросил ее в окно.
Людмила закричала: «Что ты делаешь?», но он, стащив с нее джинсы, раздевал ее и дальше, говоря при этом: не кричи, девочка, я же вор – я сразу понял, что деньги у тебя в нагрудном кармане, я бы их у тебя так изъял, что ты бы ничего не заметила, но жажда тебя оказалась сильнее жажды денег, ты не переживай, деньги в твоей рубашке фактически уже не были твоими, однако я их себе тоже не взял, пусть уж никому из нас не достанутся – запомни, я выбросил в окно свои деньги, многим я за эту… случайную связь с тобой… пожертвовал.
Воспоминания о дороге в Новороссийск вынудили Людмилу Канапину пойти в душ. Не закрыв за собой дверь и даже не прикрывшись шторой; Людмиле любопытно, что она почувствует, когда на нее будет смотреть слепой Андрей.
Смотреть и не видеть: она видит, как он на нее смотрит. Он не видит ничего – зайдя в ванну, Андрей Винитин на нее не смотрел. Неволя шальной ум беззвучным повторением разновеликих сутр, он стирал в раковине носовой платок.
Насколько она заметила, очень сопливый.
– Вот ты не закрыла дверь, – сказал Андрей, – а я вошел и не выйду, пока не достираю носовой платок. Кстати, горячую воду нам до завтрашнего утра отключили – тебе это не мешает? Я потому спрашиваю, что мне и носовой платок стирать холодно. Рукам холодно. Фактически. А тебе?
– Я редко захожу под струю, – ответила Людмила.
– Тогда ты скажи мне вот о чем. Когда женщина соглашается на ужин в ресторане или в дорогом кафе, она, тем самым, делает намек на продолжение вечера?
– Не без этого, – улыбнулась она.
– А если она соглашается на ужин в занюханной чебуречной? В этом случае как?
Людмила Канапина держится в стороне от льющейся из душа воды; вопросы слепого мужчины ей уже приелись, но она не спешит одеваться – жарко в квартире Винитина, кучно, некомфортно; Людмила эту жару словно бы видит, она размышляет: Андрей не видит даже того, что существует, а я вижу и отсутствующих в реальности монстров – кому же из нас легче? Мне, разумеется, мне.
Ну, не ему же.
– Мой вопрос касательно чебуречной, возможно, был бестактным, – нарушая затянувшееся молчание, сказал Андрей. – Если он связан с чем-то личным, то извини. Или не извиняй. Высказав свое мнение о наблюдении за аквариумными рыбками. По-твоему, это что-то дает?
– Практической пользы никакой, – сказала Людмила.
– Знаю, – перебил Андрей.
– Но это довольно интересно.
– Интересно? – Продолжая тереть хозяйственным мылом носовой платок, Андрей Винитин старался максимально отсрочить время своего возвращения в комнату. – А по-моему, ничего интересного.
На газ, жмите же скорее на газ, я лежу перед вашим трактором и не замечаю с вашей стороны никакого желания мне помочь.
Будьте же людьми. Переборите гусеницами мою печаль.
Фролов не слеп.
Он дремлет в метро и не совсем согласен с тем, что «москвичи хитрее и лживей остальных русских»; справа от него, не прижимаясь к Фролову, приближается к «Полежаевской» другой апатичный мужчина.
Это не Андрей Винитин или задумавший прошарить его пустые карманы Аркадий Кайков – это Седов.
Позавчера кто-то позвонил ему в дверь. Не выключая Леди Дэй, Седов посмотрев в глазок и увидел уставившегося на него с той стороны человека в черной шляпе и черной же маске.
– Вам чего надо? – спросил Седов.
– Я Зорро! – крикнул мужчина в маске.
– Я вижу, что вы Зорро, – сказал Седов. – Если смотришь, это не трудно увидеть. Чего надо?
– Помощь не нужна?! У вас все в порядке?
– У меня все в порядке. Грацио молте.
– Что? – спросил Зорро.
– Лом в очко, – проворчал Седов.
– А-а?
– Убирайся отсюда!
Побеспокоивший Седова индивид удалился, но, выходя следующим утром на работу Седов сразу же заметил, что обивка его двери распорота знаком Зорро; встретив этого урода, Седов обязательно бы набил ему морду: какая же гнида… кукурузник, тундра; в одном, прикрытом маской лице, Седов их пока не встретил. Он сидит в метро справа от Фролова – между ними есть свободное место и Фролову хочется, чтобы его заняла женщина.
Женщины обычно занимают меньше места: ничего более существенного Фролову от женщин сегодня не нужно. Ни сегодня, ни вчера, возросшая симпатия к загадыванию метафор и искренние потуги к взаимному оральному сексу… не вышло, не сложилось, уймись: на свободное место поблизости с ним действительно решила сесть женщина. Но промахнулась. Смолчала.
Упала Фролову на колени. Очень толстая, чужая и пьяная – обвившись вокруг Фролова мощными руками, она трясется и шумно сопит; она у Фролова на коленях: обольщение, заточение, бесы, Фролову есть к кому взывать, конец всегда близок; перед сидящим Фроловым ухватывается за поручень вошедший на «Баррикадной» парень. Бессистемный насмешник-голодарь Иван Табадумов, порывисто сдиравший презервативы и знавший выражение «все горе от баб» на шестидесяти двух языках; добродушно усмехнувшись Фролову мутно-зелеными глазами, он, поступая по собственному усмотрению, выкрикнул непосредственно ему: «я рад за влюбленных, но я рад и за себя!».
Фролов понял, что Иван Табадумов принял их за влюбленных: его и толстую, пьяную женщину.
Не берясь никого разубеждать, Фролов беспокойно задумался: не компрометирую ли я ее тем, что о нас так думают? скорее всего, компрометирую, я ее компрометирую, а она полулежит у меня на коленях, но компрометирую ли я ее или нет, еще неизвестно, а она мне на колени не умозрительно давит. Но соразмерно ли внешнему наличию в ней веса: она пила… с утра, одна… судя по оседающим на мне осколкам ее дыхания, дешевый коньяк – соразмерно ли?
Соразмерно. У нее, да. На зависть. Но количество мыслей в голове штангиста Галиновского не соразмерно качеству его мозгов: им, опять им… им вручают медали, я тут, там… преисполнен не того достоинства; совсем не осознаю своего места, не очень держусь на воде: мне не вручают ничего – я знаю, что победил… я моложе господина Фролова на пять лет и одного ребенка.
До недавнего времени Михаил Галиновский являлся штангистом верующим, но прошлое соревнование сложилось для Михаила ужасно; он к нему готовился, страшно режимил и не смог взять даже начального веса.
Килограммов на штанге было заметно больше, чем в едущей на коленях у Фролова женщины, но тогда-то Галиновский и разуверился; снял нательный крест и до сегодняшнего дня его не надевал: не помог мне Господь, думал Михаил Галиновский, не поспособствовал, только на себя отныне полагаться буду. Сжав зубы и в здравом безверии.
Михаил Галиновский не унывает, не любя. Не подкладывается под дезактивированную ясность, некогда рассчитывая на успех в соревновании, где им вручают медали, а ему ничего – вручат и мне! по утрам трусца, затем в зал, и до одури, до потери желания.
Галиновский не желал ни женщин, ни молиться, но после таких тренировок ему крайне редко хотелось просто жить: зверство… придушенное любострастие, неожиданный цвет заката, измученное тело согласно добираться до дома лишь ползком.
И все впустую: на следующем соревновании Галиновский снова не взял начального веса; в первой же попытке вырвал гриф с блинами над головой, но не удержал, и штанга полетела на помост. Вес на ней начальный, небольшой, но она соприкоснулась с помостом, уже подмяв под себя Михаила Галиноского: он из-под нее, конечно, выбрался, однако не сам. Из-под штанги Михаила вызволяли коллеги-штангисты вместе с бригадой врачей: повезло тебе, Миша, – язвительно сказал первенствовавший в его категории Василий «Мул» Забадуллин, – слабовато ты, наверно, тренировался: повезло, что инвалидом, по-видимому, не станешь.
И награждение. Вручение медалей, хлопки по плечам, девушки с подносами, уважаемые ветераны, короткое интервью главного тренера национальной команды, фото на память, ужимки, пафос, перспективы, шансы на Европе, сигара спонсора, умиротворение после боя, Галиновский лежит рядом с помостом. Врачи пока не рискуют отправлять Михаила в больницу: они не уверены, можно ли его трогать с места и боятся ухудшений – за сегодняшний день Михаил осознал совсем немало: на прошлой соревновании я всего лишь не сумел взять начальный вес, а на этом… вот…. куда как хуже все вышло.
Награждение продолжается.
Им на шею медали. Кому какие. Кому никаких – Михаил Галиновский вернет себе на шею нательный крест: зря я на Господа обиделся… с его помощью я ведь просто начального веса не взял, а сейчас как бы едва не погиб. Хотя непонятно, смогу ли я теперь самостоятельно двигаться: надо будет врачей попросить, чтобы они мой нательный крест мне на шею надели – он у меня дома, на шоссе Энтузиастов: неподалеку он от меня.
Неподалеку, совершенно… где я?… кто?… неподалеку. Гораздо ближе, чем затихающие раскаты моей прежней тупости.
От роддома до кладбища. Транзитом. Кто тут чокается за меня, как за живого? Бросьте, это лишнее.
Верующий штангист Галиновский такого бы никогда не сказал. Дискобол Павел Зотов, не прибегающий, опуская руки, к заступничеству святых, наверное бы, мог; мироотрицание уже пустило в нем свои корни, и про Павла говорят разное.
Сам Зотов говорит: уходя на запад можно зажмуриться и стрелять вслепую. Продолжая при этом идти. С посохом и сумой.
Набитой запасными обоймами.
Вот так. Или иначе: на подмосковном полу лежала пестрая и постукивающая по нему крылом бабочка, и, увидев эти аномальные пертурбации, восьмилетний ребенок переложил ее на стол. На прикрытой клеенкой фанере она вроде бы не подскакивает: она и раньше не подскакивает, но на столе она не постукивает и крылом. Странно: постукивала и вот не постукивает, предупредительная мера? это она так, не встретив дружественного приема? Алеша полагает, что ему следует позвать отца. Павла Зотова, иногда считавшего себя верным грумом своей тени.
Алеша рассказал ему все, как было: папа, пусть бы, ты… с меня и тебя… что-то забрезжило, пышно расцвело… широко улыбнувшись, Павел Зотов пошевелил бабочку безымянным пальцем и веско сказал:
– Она же, сынок, постукивала крылом по полу не от того, что была жива: ее слегка задевал ветер ветер из-под двери. А на столе ветра нет, и она лежит, как мертвая. Потому что мертвая она и есть.
Благодарный Алеша, несмотря на всю свою грусть, хорошо понял, о чем говорил ему отец; взяв бабочку за наименее оторванное крыло, он торопливо отдышался, печально шепча: да бу… дут счастли… вы все жи… вые существа.
– И что мне с ней делать? – спросил Алеша.
– Засунь ее в какой-нибудь фолиант, – ответил Зотов, – там ей самое место. Нечего ей у нас под ногами валяться.
Бабочку поместили в книгу – Алеша клал ее один, но по совету отца: вдвоем, как он рассудил, они ее клали; она полежала, Алеша тайком покурил и вдруг немного испугался – книга стала приоткрываться, и как раз между теми страницами, между которыми он ее и оставил.
Книга шевелится, мальчик бежит к отцу; Павел Зотов вместе с ним обратно к книге. Вид у него уже не снисходительный: веки подрагивают, рот кривится, колотун – подбежав, он моментально вчитался в заглавие. Не Стриндберг. Не сказание о Раме. Не Шукшин: Большой Энциклопедический Словарь.
Он, так он. Так, значит так; открыв словарь, Павел Зотов осторожно вытащил бабочку и принялся продвигаться глазами по испачканным ею строкам.
Изучил. Ущипнул себя за кончик красного носа. Рассмеялся.
– Ну ты, сынок, и голова, – сказал Зотов.
– Я? – удивился Алеша. – Весь я сплошная голова?
– Не весь, не сейчас, но ты же положил эту бабочку на статью о борее. А борей – это же, дурачок ты мой, северный ветер! Он под нее и поддувает, заставляя бить сразу обеими крыльями. Тебя пугая, меня нервируя – кому-то, возможно, и сырую гадюку вкусно съесть, но не мне. Хотя я терпелив. Целый день могу с кровати не вставать. Особенно теперь. Пропуская два года активной спортивной жизни из-за какого-то малоэффективного допинга.
– А я и не подумал, – не узнав ничего нового из отцовского признания, восхищенно пробормотал Алеша. – Борей это, значит, ветер?
– Изначально борей – это не сам ветер, – сказал Павел Зотов, – это бог северного ветра: огромный великан с крыльями, как у нашей бабочки, только очень большими. Рассказать о нем поподробней?
– Расскажи, – попросил Алеша.
– Я расскажу, но не только для себя – ты все-таки тоже послушай. Если не заснешь.
– Не засну, – пообещал сын.
– Верю, – недоверчиво покачал головой Павел Зотов.
В согласие и прохладе отец рассказывает Алеше историю о борее, и мальчик его внимательно слушает.
Да и бабочка старается ничего мимо ушей не пропускать: боги, легенды, крылатые великаны – хотя она уже давно упокоилась, она внимала, а Павел Зотов, съев поздним вечером шесть формально очищенных морковей, пошел вместе с сыном на железнодорожную станцию встречать свою жену, прервавшую заканчивающийся послезавтра отпуск, чтобы вернуться в столицу и в очередной раз попытаться образумить беспробудно пьющего брата.
Ее неженатый и искательный брат Семен «Пачино» Багаев пил так сильно, что денег у него уже не оставалось ни на себя, ни на прочих.
Он пил много лет.
Долго и часто, но бросил – не принимая в расчет мольбы любивших его людей, а исключительно после того, как увидел наяву благодарно кивающего ему дьявола.
Семен «Пачино» Багаев не пьет уже практически месяц, и денег у него становится больше; их достаточно и на подарок сестре – недорогой вибратор или иконку с ее святым – и на игрушки для детского дома.
На выпивку тоже есть.
Вовсю ночуя на пеньке, он не давал обет молчанья.
Крича в сне, вопя в тайге: «Я человек! В беде сознанья!»; удивившись своему материальному достатку, поддерживающий тайные контакты с верхоянскими эзотеристами Семен Багаев снова начал пить. Благо, за последнее время он не истратил на водку немало средств.
День пьет, а второй уже терпит; пить не пьет, но похмеляется. День пьет, неделю похмеляется.
Похмелиться и, не удержав в памяти личину благодарно улыбающегося дьявола, еще немного выпьет.
Случается и упадет, но руки впереди себя Багаев никогда не выставляет – расколет подбородком нециклеванную паркетину и худо-бедно соберется с мыслями.
Сам поднимется, а приподнять мысли «Пачино» не в состоянии: неподъемные они у него.
Подобных людей ни за что не вытолкаешь из-под их зонта. Смертельный удар наносится изнутри… лишь бы не пропустить в хранилища эго какую-нибудь Лизу; однажды на Полянке Семен под сырный пирог жестко надрался с Мартыновым.
Семен «Пачино» Багаев по привычке упал, Мартынов шатается – на его пути развязно обнимающаяся парочка, и Мартынов чуть-чуть не рассчитывает степень своей качки и задевает отнюдь не дефективным плечом низкую девушку; она практически не удерживается на ногах, Мартынов думает: от удара об мое плеча голова у нее, наверное, распухнет – она увеличится в объеме и в ней появится еще больше свободного пространства. Девушке будет еще более не по себе. Но если ее мужчина попробует меня отмудохать, то и я ему с каждой стороны выбью по несколько зубов, так как мне уже надоело, что меня бьют, а я понимающе не сопротивляюсь.
Мартынов не изливает свою душу в матерных частушках. Он готов сцепиться и с продажными егерями, и с деятельным трезвенником Константином Цепковским; с одного попадания, я имею намерение положить его с одного попадания, с одного… занятно: похоже тут надо сначала положить, а потом попадать; при ближайшем рассмотрении выясняется, что кавалер этой девушки отнюдь не мужчина. Ее сопровождает определенно женщина. Комично настаивая на своей неженской сути, она обзывает Мартынова излишне хриплым голосом – давай-давай, напрягайся… я вряд ли пригожусь твоему зову плоти; у Мартынова уже проходит его настроение биться: не кладите меня в катафалк. Я сам дойду до могилы. Она его оскорбляет, но Мартынов, по старым традициям всегда отплевывающий на землю перед тем, как поцеловать икону, не притрагивается к ней ни рукой, ни озлобленным взглядом.
– Иди, алкаш, – процедила она. – Ставь на ноги своего обожравшегося друга. Все лучше, чем с залитыми глазами из угла в угол ходить.
– Как-нибудь без тебя разберусь, – промолвил Мартынов. – Согласно Дайсэцу Судзуки «истинные Бодхисаттвы выше чистоты и добродетели».
– Да пусть твой… твой… как ты сказал?
– Ступай на гору Кайлас и найди там Шиву – он еще иногда заходит в свой райский сад. Поздоровавшись с ним за одну из его рук, ты…
– Гляди, сволочь, огребешь сейчас!
– Не сутулься, – усмехнулся Мартынов.
Она все же женщина: гротескная декадентка-лесби Светлана Горюнова провинилась перед ним не настолько, чтобы осоловелый Мартынов ее по-серьезному бил. Да и настроение биться внутри Мартынова далеко не завсегдатай: оно посещает его не чаще заблеванных гуманоидов.
Не место ему в нем.
В Мартынове и без него дышать нечем.
Но есть кому.
После состоявшейся в марте 1999-го семичасовой хмельной беседы с крупнейшим из не засматривающихся на мальчиков теологов Александром Палычем Кавало-Лепориниди для Антона «Бурлака» Евгленова Рождество Христово также является очень большим событием: он посещает храм не только по праздникам, но на Рождество он прибывает туда в обязательном порядке; постоит, покреститься и выдвигается на мороз принимать посильное участие в крестном ходе и хлебать из старого термоса обжигающий мятный чай – выныривать из каждодневного дерьма; он и неухоженные женщины, мордовороты и облака, Плотник и Морж…
Пройдя крестный ход, Антон идет домой и незамедлительно звонит ущербному человеку современного типа Николаю Чаялову, которому, что Рождество, что тараканьи бега: Чаялов давно спит. Он отдается возвышенному труду плотских утех статным лирическим героем и примеряет перед ромбовидным куском чистейшего льда шляпу с султаном из перьев марабу; печень не болит, крест шею не натирает, до рассвета Николаю еще далеко: звонок, искры, взрыв, нашаривание стоящего на тумбочке аппарата – из трубки слышится приподнятый голос Антона Евгленова.