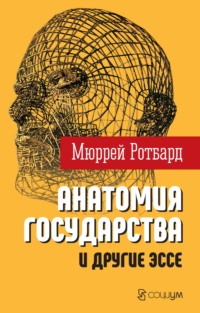Das Buch kann nicht als Datei heruntergeladen werden, kann aber in unserer App oder online auf der Website gelesen werden.
Buch lesen: "«Анатомия государства» и другие эссе"
© Куряев А. В., перевод, 2025
* * *
Анатомия государства
Чем государство не является
Почти повсеместно государство считается институтом, который предоставляет общественные услуги. Некоторые теоретики благоговейно превозносят государство как апофеоз общества; другие считают его дружелюбной, хотя зачастую и неэффективной организацией для достижения общественных целей; но почти все считают его необходимым средством достижения целей человечества, средством, которое должно быть противопоставлено «частному сектору» и часто побеждать в этой конкуренции ресурсов.
С распространением демократии отождествление государства с обществом усилилось до такой степени, что часто можно услышать мнения, нарушающие практически все постулаты разума и здравого смысла, вроде «правительство – это мы». Полезный собирательный термин «мы» позволил набросить идеологический камуфляж на реальность политической жизни. Если «правительство – это мы», тогда все, что правительство ни делает с человеком, не только справедливо и нетиранично, но также «добровольно» со стороны соответствующего индивида. Если правительство взяло на себя огромный государственный долг, который надо выплатить, облагая налогами одну группу в пользу другой, реальность этого бремени вуалируется фразой «мы должны сами себе»; если правительство призывает человека в армию или бросает его в тюрьму за инакомыслие, то «он делает это сам с собой» и поэтому ничего предосудительного не произошло. Если следовать этой логике, тогда евреи, убитые нацистским правительством, не были убиты; вместо этого они, должно быть, «совершили самоубийство», так как они были правительством (которое было избрано демократическим путем) и поэтому все, что с ними сделало правительство, было добровольно с их стороны. Казалось бы, нет необходимости это обсуждать, однако подавляющее большинство людей подвержено этому заблуждению в большей или меньшей степени.
Поэтому нам следует подчеркнуть, что «мы» – не правительство, а правительство – не «мы». Правительство никоим точным образом не «представляет» большинство народа1. Но даже если бы оно и представляло, даже если 70 % народа решило бы убить остальные 30 %, все равно это было бы убийством, а не добровольным самоубийством со стороны истребленного меньшинства2. Никакой органической метафоре, никакой бессмысленной банальности вроде «мы все часть друг друга» не следует позволять затмевать этот базовый факт.
Если государство – не «мы», если оно – не «человеческая семья», собирающаяся вместе для решения общих проблем, если это не профсоюзное собрание или загородный клуб, то что это? Вкратце государство – это организация в обществе, которая пытается поддерживать монополию на применение силы и насилия на определенной территории; в частности, это единственная организация в обществе, которая получает свой доход не при помощи добровольных взносов или платежей за оказанные услуги, а при помощи принуждения. В то время как другие индивиды или институты получают доход посредством мирной и добровольной продажи товаров и услуг другим, государство получает доход, используя принуждение, то есть угрожая тюрьмой и штыком3. Использовав насилие для получения дохода, государство обычно на этом не останавливается и регулирует и диктует остальные действия своих подданных. Можно подумать, что достаточным доказательством этих утверждений может служить простое наблюдение всех государств на протяжении истории по всему миру; однако миазмы мифов так долго окутывали деятельность государства, что существует необходимость в разъяснении.
Что такое государство
Человек приходит в этот мир нагим и нуждается в применении разума, чтобы научиться использовать ресурсы, данные ему природой, и трансформировать их (например, путем инвестирования в «капитал») в формы, состояния и места, где ресурсы могут быть использованы для удовлетворения его желаний и повышения его уровня жизни. Единственным способом этого добиться для человека является использование своего разума и энергии для трансформации ресурсов («производство») и для обмена получившихся продуктов на продукты, созданные другими. Человек обнаружил, что благодаря процессу добровольного, обоюдовыгодного обмена производительность и, следовательно, уровень жизни всех участников обмена могут чрезвычайно сильно повыситься. Поэтому единственным «природным» способом для человека выжить и достичь достатка является использование своего разума и энергии для участия в процессе производства и обмена. Для этого он сначала находит природные ресурсы, затем преобразует их (по выражению Локка, «смешивает с ними свой труд»), превращая их в свою личную собственность, а затем обменивает эту собственность на аналогично полученную собственность других людей. Таким образом, социальный путь, диктуемый требованиями природы человека, – это путь «прав собственности» и «свободного рынка» обмена или дарения этих прав. На этом пути люди научились избегать пещерных методов борьбы за редкие ресурсы так, что А может их получить только в ущерб Б, и, напротив, чрезвычайно преумножать эти ресурсы в мирном и гармоничном производстве и обмене.
Великий немецкий социолог Франц Оппенгеймер отметил, что существуют два взаимоисключающих способа приобретения богатства; один из них, упомянутый выше способ производства и обмена, он называл «экономическим средством». Другой способ проще и не требует производительности; это способ захвата товаров и услуг других людей при помощи силы и насилия. Это метод односторонней конфискации или кражи чужой собственности. Это метод, который Оппенгеймер назвал «политическим средством» приобретения богатства. Должно быть ясно, что мирное использование разума и энергии для производства – это «природный» путь для человека: средство его выживания и процветания на этой земле. Точно так же должно быть ясно, что принудительное, эксплуататорское средство противоречит природному закону; он паразитичен, поскольку вместо обеспечения прибавки к производству он из него вычитает. «Политическое средство» перекачивает производство в пользу паразитической и разрушительной личности или группы; и такое перекачивание не только уменьшает количество произведенного, но также снижает стимул производителя производить сверх минимально необходимых ему средств к существованию. В долгосрочной перспективе грабитель уничтожает собственные средства к существованию, истощая или уничтожая источники своего благополучия. Но это не всё, даже в краткосрочной перспективе хищник действует вопреки собственной человеческой природе.
Теперь мы можем более полно ответить на вопрос: что такое государство? Государство, по словам Оппенгеймера, это «организация политических средств»; это систематизация хищнического процесса на данной территории4. Ведь преступность спорадична и неопределенна; паразитизм эфемерен, и сопротивление жертв может в любой момент прервать образ жизни, основанный на принуждении и паразитизме. Государство предоставляет узаконенный, упорядоченный и систематический канал для расхищения частной собственности; оно предоставляет паразитической касте общества надежную, безопасную и сравнительно «мирную» жизненную траекторию5. Поскольку производство всегда предваряет расхищение, свободный рынок предшествует государству. Государство никогда не создавалось через «общественный договор»; оно всегда рождалось в результате завоевания и эксплуатации. Классическая парадигма состояла в том, что племя завоевателей прекращало свой проверенный временем метод грабежа и истребления завоеванного племени, сообразив, что можно грабить дольше, надежнее и в более приятной обстановке, если завоеванному племени позволить жить и производить, а при этом завоеватели поселятся среди них как правители, вымогая постоянную ежегодную дань6. Один из методов зарождения государства можно проиллюстрировать следующим образом: на холмах Южной Руритании группе бандитов удается установить физический контроль над территорией и в конце концов главарь банды объявляет себя «Королем суверенного и независимого правительства Южной Руритании»; и если он и его люди обладают силой для поддержания такого правления в течение некоторого времени – о чудо! – новое государство присоединяется к «семье народов», а прежние лидеры бандитов превращаются в законную знать королевства.
Как государство себя сохраняет
Как только государство образовалось, перед правящей группой или кастой возникает проблема – как поддерживать свое правление7. Хотя их modus operandi – насилие, в долгосрочной перспективе главная проблема – идеологическая. Для пребывания у власти любое правительство (а не только «демократическое») должно иметь поддержку большинства своих подданных. Следует отметить, что такая поддержка не обязательно должна выражаться в форме активного энтузиазма; вполне достаточно пассивного смирения, как перед неизбежным законом природы. Но поддержка в смысле определенного рода принятия необходима; в противном случае большинство общества в конце концов одолеет меньшинство правителей государства.
Так как хищничество должно поддерживаться избытком производства, по необходимости верно то, что класс, составляющий государство, – занятое полный рабочий день чиновничество (и знать) – должен составлять незначительное меньшинство в стране, хотя, конечно, они могут покупать союзников среди важных групп населения. Поэтому главной задачей правителей всегда является обеспечение активного или смиренного принятия со стороны большинства граждан89.
Конечно, один из методов обеспечить поддержку – создание укорененных экономических групп. Поэтому король не может править сам; он должен иметь значительную группу последователей, располагающих предпосылками правления, например сотрудников государственного аппарата, таких как постоянное чиновничество и признанная знать10. Однако это обеспечивает только небольшое количество ярых сторонников, и даже жизненно важная покупка поддержки при помощи субсидий и предоставления других привилегий все же не позволяет получить согласия большинства. Для этого при помощи идеологии большинство следует убедить в том, что их правительство доброе, мудрое и по меньшей мере неизбежное, и уж точно лучше, чем любые мыслимые альтернативы. Распространение этой идеологии среди народа – важнейшая социальная задача «интеллектуалов». Ведь массы не создают собственных идей и не продумывают эти идеи независимо; они пассивно следуют идеям, которые приняты и распространяются корпусом интеллектуалов. Таким образом, интеллектуалы являются «скульпторами общественного мнения». А так как именно в формировании общественного мнения отчаянно нуждается государство, становится ясной основа векового альянса государства и интеллектуалов.
Очевидно, что государство нуждается в интеллектуалах; не так очевидно, почему интеллектуалы нуждаются в государстве. Проще говоря, можно утверждать, что на свободном рынке благополучие интеллектуала всегда непрочно; ведь интеллектуал вынужден зависеть от ценностей и вкусов массы своих сограждан, а для масс характерно именно общее равнодушие к интеллектуальным вопросам. С другой стороны, государство охотно предлагает интеллектуалам прочное и постоянное место в государственном аппарате, а тем самым надежный доход и престиж. Ведь интеллектуалы будут щедро вознаграждены за важную функцию, которую они выполняют для государственных правителей, к группе которых они теперь присоединяются11.
Альянс между государством и интеллектуалами проявился в страстном желании профессоров Берлинского университета в XIX столетии сформировать группу «интеллектуальных телохранителей дома Гогенцоллернов». В наши дни следует обратить внимание на откровенное замечание влиятельного ученого-марксиста, касающееся критического исследования восточного деспотизма профессором Виттфогелем: «Цивилизация, подвергнутая профессором Виттфогелем столь резким нападкам, принадлежала к числу тех, которые сумели сделать поэтов и ученых чиновниками»12. Можно также отметить многочисленные примеры развития «науки» стратегии, состоящей на службе у вооруженных сил, основной ветви правительства, осуществляющей насилие13.
Кроме того, почтенным институтом является занятие официального или «придворного» историка, посвященное распространению взглядов правителя на деяния его и его предшественников14.
Аргументы, с помощью которых государство и его интеллектуалы склоняли подданных к поддержке своего правления, многочисленны и разнообразны. В целом аргументы можно свести к следующему:
(а) правители государства – великие и мудрые люди (они «правят по божественному праву», они – «аристократы» среди людей, они – «научные эксперты»), гораздо выше и мудрее своих хороших, но простоватых подданных, и
(б) власть правительства неизбежна, абсолютно необходима и намного лучше, чем неописуемое зло, которое воспоследует за его падением. Союз церкви и государства был одним из древнейших и наиболее успешных из этих идеологических приемов. Правитель был либо помазанником божьим, либо, как в случае многих восточных деспотий, сам являлся богом, так что любое сопротивление его правлению было богохульством. Государственные жрецы выполняли основную интеллектуальную функцию – обеспечение народной поддержки и даже поклонения правителям15.
Другой успешный прием – внушить страх альтернативной системы правления или отсутствия правления. Поддерживалось мнение, что нынешние правители предоставляют гражданам жизненно необходимую услугу, за которую они должны быть чрезвычайно благодарны, – защиту от случайных грабителей и преступников. Государство, защищая собственную монополию на хищничество, действительно, заботилось о том, чтобы свести к минимуму частную и несистематическую преступность; государство всегда ревностно относилось к своему заповеднику. В последние столетия государство особенно преуспело в нагнетании страха перед правителями других государств. Поскольку поверхность земного шара была распределена между государствами, одной из основных доктрин государства было отождествление себя с территорией, которой оно управляло. Поскольку большинство людей склонны любить свою родную землю, отождествление этой земли и ее народа с государством стало средством заставить естественный патриотизм работать на пользу государству. Если «Руритания» подвергалась нападению «Валдавии», первой задачей государства и его интеллектуалов было убедить народ Руритании, что атака направлена именно на них, а не просто на правящую касту. Тем самым война между правителями была превращена в войну между народами, каждый народ защищал своих правителей, ошибочно полагая, что это правители защищают их. Этот прием «национализма» имел успех только в рамках западной цивилизации и лишь в последние столетия; еще не так давно основная масса подданных воспринимала войны как ничего не значащие сражения между различными группами знати.
Идеологическое оружие, применяемое государством в течение столетий, изощренно и многообразно. Одним из лучших является традиция. Чем дольше государству удавалось сохранять свое правление, тем мощнее становилось это оружие, так как теперь династию Х или государство У поддерживает кажущийся вес вековых традиций16. Поклонение предкам становится не слишком тонким средством поклонения древним владыкам. Самая большая опасность для государства – независимая интеллектуальная критика; нет лучшего способа подавить такую критику, чем объявить любой одинокий голос, любого высказывающего сомнения как осквернителя мудрости предков. Другая мощная идеологическая сила заключается в принижении индивидуальности и возвеличивании коллективности общества. Первоначально идеологическая опасность правлению может проистекать только от одной или нескольких независимо мыслящих личностей, поскольку всякое правление подразумевает согласие большинства. Новая идея, не говоря уже о новой критической идее, по необходимости зарождается как особое мнение меньшинства; поэтому государство должно подавить такие взгляды в зародыше, высмеивая любые взгляды, идущие вразрез с мнением масс. Максимы «слушай только своих братьев» и «подстраивайся к обществу» становятся идеологическим оружием для подавления индивидуального инакомыслия17. Благодаря таким мерам массы никогда не узнают, что король голый18.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.