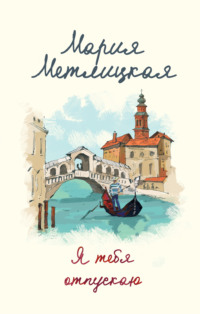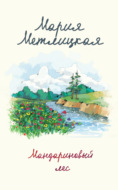Buch lesen: "Я тебя отпускаю"

Я тебя отпускаю
Ника стояла у окна и смотрела на улицу. Впрочем, улицей это назвать было сложно – окно выходило на узкий канал с мутной водой ярко-болотного цвета. Кстати! А бывает ярко-болотный цвет? Кажется, родные болота были темно-зеленые. А здесь скорее цвет мутного изумруда. Напротив, почти на расстоянии руки, стоял дом. Обычный венецианский дом на сваях, обросших мягкими колышущимися водорослями. К крыльцу, похожему на маленькую пристань, была привязана небольшая лодчонка с мотором. В окна, закрытые плотными ставнями, подсмотреть, как бы ни хотелось, не получалось. А жаль – с детства Ника любила подглядывать в чужие окна. Лучше всего это удавалось в Дании или Норвегии, где вообще не вешали занавесок – смотри кто хочешь, нам скрывать нечего. Но почему-то заглядывать в окна скандинавов было совсем неинтересно: все одинаково, как под копирку, – простые и однотипные белые кухни «привет из «Икеи», скучные молочно-белые, похожие на больничные, светильники. Да здравствует скандинавский минимализм. Слишком просто, слишком удобно и некрасиво, увы.
Ей казалось, что здесь, в этом сказочном и загадочном городе, все должно быть не так. Какой минимализм? Он оскорбителен здесь, в этом месте. Здесь все должно быть совсем по-другому, не так: и мебель, и люстры, и потертые бархатные гардины, пыльные и тяжелые, поди постирай. И старые картины в потускневших тяжелых рамах. И тяжелые хрустальные флаконы с вином, и старые книги в золоченых переплетах. Здесь все – старина. И все – волшебство и загадка. Во-первых, Ника в этом была абсолютно уверена, ну и, во‑вторых, фантазировала, конечно. Представляла себе это так: вот-вот, через минуту, с усилием и скрежетом хозяйка откроет проржавевшие от влаги ставни и…
И Ника, любопытная Варвара, увидит все именно так, как себе представляла.
Итак, ее любопытному и жадному взору откроется комната. Нет, даже зал! Именно зал, с высокими, метров в пять, потолками, с тяжелой и длинной, разноцветной люстрой муранского стекла на бронзовых могучих цепях, от которой тысячи разноцветных солнечных зайчиков шаловливо разбегутся по мутной воде канала. Да так шустро, что невольно прищуришь глаза. Мощный дубовый потертый паркет с инкрустацией – ему тыща лет, а ничего с ним не делается. Увидит и темную, приземистую мебель: пузатые комоды с потускневшими от времени и влаги зазеленевшими бронзовыми кручеными ручками, книжные шкафы с толстыми гранеными стеклами, за которыми плотно стоят пахнущие вечной сыростью старинные фолианты в золотом тиснении. Откроются взору крепкие, на гнутых ножках, с затейливо вырезанными спинками и потертой атласной обивкой стулья. И обязательно бюро со множеством изящных ящичков для секретных писем и прочих загадочных, не для чужого взора, затейливых мелочей. И, конечно же, стол – овальный, могучий, из тех, что навсегда, на века. А на нем будет лежать кокетливая, чуть пожелтевшая от времени, кружевная скатерка, любовно вытканная руками местных умелиц. И непременно ваза, высокая, конечно же, муранского стекла, с разноцветными, немного подвядшими, анемонами – фиолетовыми, желтыми, лиловыми, розовыми, ярко-красными и нарядными белыми.
Ставни откроет немолодая, растрепанная, зевающая хозяйка в длинном шелковом, с кистями халате. Она машинально поправит растрепавшие волосы, снова зевнет и выглянет на улицу. Поморщится при виде мелкого, густо сыплющего, так надоевшего дождя, поежится от привычной сырости, поведет круглым плечом, подтянет кисти халата и, разочарованная, уйдет в глубь квартиры – дела. Там, на темной от копоти кухне, завешанной старыми, тусклыми медными сковородками, она в задумчивости замрет на пару минут у огромной старой плиты с тяжеленными чугунными конфорками. На плите будет стоять древняя, плохо отмытая медная джезва. Да и зачем ее отмывать – на вкус кофе это уж точно не влияет. Вся в своих мыслях, медленно она будет помешивать тусклой серебряной ложечкой в джезве и думать о своем. И, конечно, не углядит, пропустит минуту, и кофе с шипением выплеснется наружу.
Она чертыхнется: «Ну вот, каждый раз так!» И, наплевав на подгоравшую гущу – потом, все потом, сейчас главное – кофе, – она перельет его в маленькую и очень изящную старую чашечку с витой ручкой и крошечной, почти незаметной трещинкой с правого боку и наконец усядется за стол.
Синьора будет медленно пить свой первый утренний кофе, терпкий, черный, без молока, и сладкий аромат его станет витать в темной, не слишком опрятной кухне. Но все это ей не помешает – она привыкла к заброшенности, весь этот город производит впечатление немного заброшенного. И ритуал нетороплив и приятен – и неспешное питье, и кусочек поджаренного в тостере хлеба, намазанного клубничным вареньем, и небольшой кусок пармезана – все это примирит ее с сыростью, влажностью и мелким дождем за окном. Ну и с одиночеством – и к нему она тоже привыкла.
Ника улыбнулась, прокрутив эту картинку в своей голове, и поежилась: голые ступни здорово замерзли – каменный пол был холодным – зима, и в номере было холодно. Нет, отопление имелось – низкая и узкая полоска еле теплой батареи стыдливо пряталась за занавеской.
«В душ, – подумала Ника, – замерзла. Не дай бог, разболеюсь. Вот это уж точно будет катастрофа!» И она пошла в ванную, на всю мощь врубила горячую воду и долго, с полчаса, не вылезала, точнее, не решалась вылезти. В большой ванной с окном тоже было прохладно.
Минут через десять все-таки собралась с духом и заставила себя вылезти из-под горячей струи, быстро обтерлась огромным тяжелым полотенцем и встала у длинного и узкого, висящего не над раковиной, как везде было принято, а сбоку, у окна, старого, мутного от пара зеркала. Протерев его ладонью, внимательно посмотрела на себя. Разглядывала себя долго, поворачивалась и так, и эдак. Вытягивала трубочкой губы, делала страшный оскал и смешные гримасы. Потом вздохнула: «Ну что я пытаюсь тут разглядеть, что увидеть? Что появились новые морщины? Но это нормально. В конце концов, тридцать семь, так что все логично».
Ника высушила роскошные и густые волосы, ее гордость и предмет зависти подруг. Правда, как всегда, не до конца, на это ей не хватало терпения. Там, в глубине, в «зарослях», они оставались чуть влажными. Намазала лицо кремом, брызнула совсем чуть-чуть духами, надела гостиничный белый махровый халат и вышла.
Илья спал на спине, широко раскинув руки – красивые, сильные, мускулистые, смуглые, с тонкими, но сильными пальцами. Его руки всегда Нику завораживали. Как, впрочем, и все остальное. «Любовь в глазах смотрящего, – вздыхала мама, – но слишком уж ты в восторге. Пора чуть-чуть приоткрыть глаза». Восторг на восьмой год знакомства маме казался слегка неуместным, и ее можно было понять – долголетняя и, скорее всего, безнадежная связь с глубоко женатым человеком. Чему уж тут радоваться?
Да, маму можно понять. Но и Нику тоже. Все это называлось любовью. Простое объяснение, куда уж проще. Но этим, как ей казалось, все и оправдано.
Ника смотрела на любимого и размышляла – лечь рядом? Или не тревожить? Илья всегда вставал тяжело, с долгим кряхтением, с недовольным лицом и в отвратительном настроении. Сова, что поделать. И только в отпуске позволял себе дрыхнуть как сурок.
Ника как раз была жаворонком, вставала легко, без сожаления выныривала из снов, приятных и не очень, и тут же приходила в себя. Даже в отпуске в постели не застревала – какое? Когда ждут море и солнце, незнакомая страна и неизвестный пока город? Как можно терять драгоценное время? Она сразу же выходила на балкон, вставала на цыпочки и сладко потягивалась – красота! И тут же начинала любить весь мир. Илья говорил, что она счастливая. Ника, кстати, не возражала.
В отпуск они всегда ездили вместе. Ну или почти всегда, бывало по-всякому.
После душа Ника согрелась, надела тапки и снова подошла к окну – дождь прекратился, но по-прежнему было серо и пасмурно. А в квартире напротив, в которую ей так хотелось подглядеть, уже открыли ставни. «Эх, пропустила, – вздохнула Ника, – опять пропустила! Два дня караулю – и на тебе, снова». Да и разглядеть что-либо в темной квартире было невозможно. Ника снова вздохнула и услышала голос Ильи:
– Ну что, бессонная моя? Давно бодрствуешь?
Она обернулась с улыбкой:
– Давно. С час определенно.
Илья широко, смачно, со вздохом зевнул и приподнялся на подушке. Пошарил рукой на тумбочке в поисках очков и, нацепив их, стал внимательно разглядывать ее, словно впервые видел.
– Иди сюда, малыш! – Он похлопал по кровати.
С минуту Ника раздумывала, потом вздохнула и жалостливо пропела:
– Ну-у… А завтрак? Мы его почти пропустили. Еще полчаса – и все!
Илья усмехнулся:
– Боишься остаться голодной? Ну ты обжора известная! – Он глянул на часы. – Да и смысла уже нет. Завтраки здесь паршивые, и все наверняка уже подмели. Иди сюда, а потом, – он снова широко зевнул, – пойдем завтракать в нормальное место. Ну или уже обедать, как получится, – рассмеялся Илья. – Иди, ну! Иди!
И Ника послушно легла рядом с ним.
Однажды Илья ей сказал:
– Знаешь, что в тебе замечательно? Ну, кроме всего остального? Твои кротость, уступчивость. Умная такая покорность. Ты не споришь по пустякам, не лезешь в бутылку. Ты… – Он задумался. – Ты человек неконфликтный. А это, знаешь ли, приятно любому мужчине.
«Понятно, – подумала Ника, – значит, его жена скандальная тетка. Спорит по любому поводу. Ну и прекрасно. Вот здесь у нас точно будет по-другому». Она и вправду была неконфликтным человеком. Но здесь решила оглядываться. Тогда еще были большие надежды на то, что он разведется и уйдет из семьи. Но не случилось. Со временем острое чувство обиды и несправедливости отступило, и Ника почти смирилась. Конечно, была долгая и трудная работа над собой. Убеждала себя, что официальный брак и совместное проживание, так же, как и общее хозяйство, вещи не главные, главное – любовь. В это она верила свято. Любовь, взаимопонимание и ощущение своего человека. А это у них точно было.
Ника осторожно прилегла рядом. Илья обнял ее. И в эти минуты все разумные доводы катились в тартарары. Да и какие доводы, господи! Разумных доводов давно не было – оставались одни неразумные.
После, когда Илья откинулся на подушке, положив руки за голову, а Ника пристроилась у него на плече, он спросил:
– Ну что? От голода еще не помираешь?
– Помираю. Вопрос риторический или ты готов к подвигам?
Он притворно вздохнул:
– Готов. А куда мне деваться?
Пока Ника приводила в порядок волосы, которыми Илья всегда любовался, пока красила глаза и губы – чуть-чуть, слегка, соизмеримо утренней обстановке, Илья все еще лежал в постели, и было понятно, что вставать ему по-прежнему не хочется.
Ника обернулась:
– Ну и что дальше? Будем лежать?
Илья нехотя потянулся и сел на кровати.
– Эх, с каким удовольствием я бы сейчас поспал!
И тут Ника разозлилась: господи, да сколько же можно! За окном Венеция, лучший город на свете. Город ее мечты и сладких снов. А Илья? Нет, Ника все понимала – он был здесь не раз. Кажется, два или три. Но какая разница? Тогда он был не с ней. С кем – уточнять не стоит, скорее всего, с женой. Но сейчас они вместе! Он и она! Как можно сравнивать?
Ника резко встала с пуфика, обтянутого когда-то синим, а теперь белесым бархатом, и пошла одеваться.
Илья громко вздохнул и стал неспешно натягивать джинсы. По природе своей он был довольно медлительным, неспешным – даже странно, как ему удавалось существовать в большом бизнесе, в вечной спешке, переговорах, командировках и бесконечных деловых ужинах. По природе Илья был сибаритом, любителем тишины. А вот Ника – ловкой, стремительной. Всегда торопилась и всегда боялась опоздать. Лежать на диване, когда можно куда-то мчаться: в театр, на выставку, в гости, в кафе? Ей все хотелось успеть. А вот успешной она не стала – так, середнячок, рядовой сотрудник, хороший исполнитель.
– Жду тебя, – коротко бросила Ника и, пытаясь скрыть раздражение, вышла в коридор.
Надо остыть, чтобы не испортить поездку. «В конце концов, – принялась уговаривать себя она, – у нас еще целых пять дней, все наладится. Все наладится, да. И эту поездку Илюша устроил ради меня. Ему сюда не хотелось. Зима, сырость, дождь». Илья действительно уговаривал Нику поехать в теплую страну, в Израиль или на Кипр, или вообще махнуть куда-нибудь в Азию или в Африку, в Марокко, например, или в Тай. Там если не море и не океан, то уж точно солнце и теплый бассейн. Но Ника стояла насмерть – только Венеция. «И вообще, ты обещал!» И он согласился.
Ника всегда умела себя успокаивать и уговаривать, и Илье, кстати, это тоже нравилось.
– Характер у тебя золотой, – говорил он, – нет, правда, не баба, а золото! Как же мне повезло!
– Тебе определенно, – усмехалась Ника. – А вот мне… Не уверена.
– Тебе точно нет! – смеясь, подхватывал он. – Поверь, я-то знаю!
Наконец Илья вышел за дверь – красивый, высокий, ладный. Ее мужчина. Ее любимый мужчина. И это самое главное.
Держась за руки, они стали спускаться по старой мраморной лестнице с кое-где отколовшимися ступеньками, устланной синей ковровой дорожкой. Отполированные тысячами рук мраморные перила, картины с видами города и канала с гондолами – все как положено, старина и ее имитация. За дубовой резной темной стойкой лобби стоял молодой чернокожий мужчина с золотой серьгой в ухе. Вид у него был высокомерный и неприступный. Перебирая какие-то документы, на них он и не взглянул.
– Вот так, – усмехнулся Илья. – Вот такой сервис! Ну где ты видела такое пренебрежение?
Ника промолчала – вот сервис уж точно ее волновал в последнюю очередь.
– Вот именно, нигде! – продолжал Илья. – Ни в Европе, ни уж тем более в Америке! Не говоря уже про Россию. А здесь, – он кивнул на чернокожего за стойкой, – запросто! И знаешь почему? Да потому что им всем давно осточертели туристы! Такой наплыв, такой нескончаемый ежедневный поток. Какой-то всемирный туристический потоп, круговорот – белые, черные, желтые, со всего света. Пятнадцать миллионов туристов за год, как тебе? Ну и зачем, скажи на милость, им запоминать лица временных постояльцев? Зачем быть внимательными и любезными? Зачем улыбаться? Они не боятся потерять работу – гостиницы тут на каждом шагу. Попросят из этой, пойдут в другую. Ты заметила, какое пренебрежение написано на его скорбном лице?
– Нет. А надо было?
Илья махнул рукой и не ответил. Вышли на улицу под моросящий дождь. Илья поежился, поднял воротник куртки, посмотрел на серое, без малейшего просвета и надежды небо.
– Ну, рванули?
Кое-как справившись с зонтиком, Ника поспешила за ним, догнала:
– Иди сюда, под зонт!
Он раздраженно отмахнулся, и Ника почувствовала себя виноватой.
На улице было пустынно. Редкие туристы, в основном японцы, в одинаковых желтых прорезиненных плащах и таких же смешных шляпках-панамках, нацепив на камеры и телефоны целлофановые пакеты или чехлы, с серьезными лицами продолжали снимать достопримечательности.
Каналы были пусты – по-видимому, у гондольеров из-за паршивой погоды был выходной.
Город чудный, чресполосный —
Суша, море по клочкам, —
Безлошадный, бесколесный
Город – рознь всем городам!
Пешеходу для прогулки
Сотню мостиков сочтешь;
Переулки, закоулки, —
В их мытарствах пропадешь!2 —
вспомнила Ника и улыбнулась.
Да и магазины тоже были закрыты – светились лишь некоторые, в витринах которых переливались под яркой электрической подсветкой изделия из муранского стекла, главного бренда Венеции.
Илья шел размашисто и быстро, втянув голову в плечи. Шел отстраненно, словно Ники и не было рядом.
Заглянули в небольшой ресторанчик. Обрадованный хозяин бросился им навстречу. Еще бы – в зале они были одни. Было тепло, свет не включали. На темных панелях висели картинки с видами города – бесконечные гондолы, гондольеры с шестами в нарядных костюмах, Гранд-канал, мост Вздохов, площадь Сан-Марко, Дворец дожей, мост Риальто, церковь Санта-Мария-делла-Салюте – все то, что Ника тысячу раз видела на фотографиях и картинках, в журналах и на репродукциях. В музеях и в снах.
Они сели за столик.
«Все хорошо, – подумала Ника. – Я здесь. Вернее, мы здесь! Вдвоем. И впереди целых пять дней. Просто куксимся из-за погоды. Приехали из слякотной противной московской зимы в зиму другую – сырую, дождливую, влажную. Но я тут, в этом волшебном, удивительном, необыкновенном городе. Сбылась мечта! Только почему так грустно и тоскливо? Наверное, я редкостная зануда и неблагодарная свинья».
Ника попыталась смахнуть тоску, но получилось плохо – печаль не отпускала, и она еле-еле, с большим трудом, сдерживала слезы.
Илья лениво, словно нехотя, изучал меню.
Хозяин стоял у стойки и нервно поглядывал на гостей.
Наконец Илья выбрал стейк по-флорентийски с печеным картофелем, сто пятьдесят коньяка и большую чашку эспрессо. А Нике почему-то есть расхотелось. Но, чтобы не раздражать Илью, заказала омлет, салат с помидорами и, конечно же, кофе. Хозяин обрадованно закивал и, приняв заказ, шустро побежал на кухню.
Они молчали. Опустив глаза, Илья нервно постукивал костяшками по столешнице. Это – Ника знала – означало крайнюю степень раздражения.
«Господи! Да я-то при чем? Нет, правда? Разве я виновата, что такая мерзкая погода? Что холодно и неуютно в номере? Что сотрудник за стойкой проявил к нам неуважение? Что Илье хочется только валяться в постели?» По щеке потекла слеза, и Ника, резко встав, отправилась в туалет. Увидит – будет еще хуже, непременно разразится скандал. Да и вообще она не права – да, виновата! А ведь он говорил, что зима в Венеции – полная гадость! Сыро и ветрено, дождливо и тоскливо. Одним словом – не сезон.
А Ника, кажется, впервые была так настойчива и спорила, не соглашалась: «Венеция – всегда Венеция, в любую погоду! Это моя мечта. Мечта всей, можно сказать, моей жизни. И мне наплевать на погоду! К тому же летом, – выдохнула она, – ты, как всегда, не сможешь. У тебя, как ты обычно говоришь, другие планы».
Крыть ему было нечем – все это была чистая правда. Лето Илья проводил с семьей. Ей доставались октябрь, ноябрь, март или апрель. Что ж, тоже неплохо.
Ника всхлипнула, посмотрела на себя в зеркало, умылась холодной водой и, надев на лицо улыбку, одернула свитер и пошла в зал.
Илья пил коньяк.
– Вкусно? – миролюбиво улыбнулась Ника.
Илья кивнул. Еду принесли быстро, и по зальчику поплыл вкусный аромат свежежареного мяса.
Положив в рот первый кусок, Илья застонал от удовольствия.
– Бо-же-ствен-но! – пропел он. – Это просто божественно! Тает во рту, легче мороженого!
– Ну и отлично! – с облегчением выдохнула Ника и подумала: «Да он был просто голодный! А голодный мужик, знаете ли, совсем не подарок».
Насытившись и выпив, Илья пришел в благостное настроение:
– Ну, малыш, теперь баиньки?
Ника покачала головой:
– Я – нет. А ты как хочешь.
И снова почувствовала его раздражение.
Илья развел руками: дескать, хозяин барин. Но на его лице была гримаса недовольства. Молча вышли на улицу. Ника раскрыла зонт и замерла в растерянности. Погода и вправду была отвратительной, хуже и не придумаешь. Илья с ехидцей поинтересовался:
– Ну что? Не передумала?
Честно говоря, ей тут же захотелось в номер, под одеяло, покрепче прижаться к нему, блаженно закрыть глаза и слушать, как мелко барабанит дождь по стеклу, и, постепенно согреваясь, провалиться наконец в сладкий глубокий сон.
– Нет, не передумала, – твердо ответила она. – Валяться в номере, когда за окном Венеция? – И с плохо скрываемой обидой уточнила: – Ну что? До встречи?
Он молча кивнул с равнодушным видом и огляделся.
– Господи, ну что тебе так нравится? Посмотри вокруг: эта твоя дорогая Венеция – просто старая и облезлая кокотка, изо всех сил прикрывающая морщины и дряхлость. Что тебя так восхищает, убей, не пойму! Здесь все пахнет затхлостью и плесенью. Нет, если еще все это подсветить, может, и ничего. А так – извини. Шляться по городу под дождем и умиляться и восторгаться? – Не прощаясь, он развернулся и быстро пошел к гостинице.
Глядя ему вслед, Ника было заплакала, но взяла себя в руки и, отогнав обиду и грустные мысли, стряхнула зонт, огляделась и бодро направилась вперед.
Она вышла с узкой, казалось бы, совсем незначительной улочки – хотя уже поняла: здесь они все узенькие и очень значительные – и вдруг, как по мановению волшебной палочки, оказалась на площади Святого Марка. Это было как в сказке, когда открывается потертая крышка старой шкатулки и ты, немножко робея, вместе с чудом все же ждешь подвоха. Робеешь и предвкушаешь. И еще – очень надеешься. И перед тобой открывается нечто такое, что на пару минут ты просто перестаешь дышать. Да что там – ты в оторопи, ты в недоумении: так бывает? Нет, ты сто раз все это видела на картинах, но сейчас… Сейчас ты стоишь здесь, на этих светлых камнях, выложенных аккуратной елочкой, и пытаешься осознать, что все это, между прочим, XIII век. Ты стоишь под этими арками-сводами, а перед тобой – чудо. Обыкновенное чудо. Ника не чувствовала, как по щекам катятся слезы, смешанные с дождем. Сколько времени она так простояла? Какая разница? Вернул ее к действительности чей-то крик, и, вздрогнув от неожиданности, она немного пришла в себя.
Площадь была почти пустой – голубей, неотъемлемой части пейзажа, не было вовсе: не только люди, но и птицы попрятались от дождя. «Увидеть Венецию и умереть!» – перефразировала она слова классика. И правда, красивее этого города Ника ничего не видела. Высоко задирая голову, Ника шла по площади, разглядывая барельефы, фрески и мозаику, колонны святого Марка и Теодора, часовую башню, здания Старой и Новой прокурации, библиотеку, и вышла на пьяцетту – небольшую площадку у канала, предваряющую большую пьяццу. Ника постояла у воды, зеленой и мутноватой, вглядываясь в укрытую дымкой тумана базилику Санта-Мария-делла-Салюте.
Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.
<…>
Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое,
Но не тесно в этой тесноте
И не душно с сырости и зное3.
Пару минут раздумывала, не окликнуть ли ей гондольера, но было так сыро и ветрено, что она не решилась.
Холодный ветер от лагуны.
Гондол безмолвные гроба.
Я в эту ночь – больной и юный —
Простерт у львиного столба4.
У воды она окончательно продрогла и вернулась на площадь. Дождь усилился. Ника спряталась в галерее, под сводами у кафе «Флориан», не решаясь туда войти. Нет, испугали ее не цены, хотя были они, конечно, заоблачными. Но это нормально. Еще бы, посетители там бывали такие, что нечему удивляться: Гёте, Байрон, Казанова, Руссо, Хемингуэй, Модильяни, Стравинский и Бродский. Да и само кафе – место историческое. Его открыли в 1720 году, и оно стало первым местом, где могли собираться и женщины. Бальзак писал – она помнила почти дословно: «Флориан был и биржей, и театральным фойе, и читальным залом, и исповедальней, коммерсанты обсуждали в нем сделки, адвокаты вели дела своих клиентов, некоторые проводили в нем целый день и театралы забегали в кафе в антрактах представлений, даваемых в расположенном неподалеку театре «Ла Фениче». Она стояла, вспоминая строки Бродского: «Площадь пустынна, набережная безлюдна…»
Все так. Сквозь пелену мелкой мороси Ника смотрела на площадь Сан-Марко, пока не почувствовала, что промокли ноги.
Конечно, промокли – а все желание пофорсить. Надо было надеть резиновые сапоги или боты, а она, дурочка, нацепила сапожки из тонкой кожи – стиляга. Ника быстро пошла к гостинице, но заплутала – бесконечные, узкие, похожие друг на друга улочки словно смеялись над ней и водили по кругу. Вымотавшись окончательно, она набрела на небольшое кафе, зашла, села у окна, заказала чай и каштановый торт – что это, интересно? Тут же под столом скинула мокрые сапожки, но все равно никак не могла согреться. «Не дай бог, заболею, – повторяла она, – вот это будет номер! Вот тогда-то и получу от Ильи по полной программе – что-что, а ерничать и подкалывать он умеет».
Водки в кафе не оказалось, и Ника заказала сто граммов коньяка. Залпом, как водку, выпила его, перехватив удивленный взгляд бармена, который спешно принес ей чай с куском торта. Коричневый торт был влажным, пропитанным чем-то чуть горьковатым и немного похожим на шоколадную коврижку, которую в далеком детстве часто пекла мама.
Выпив чаю, она наконец согрелась. Коньяк немного ударил в голову, и стало легко и свободно.
Где-то запели колокола.
Ника смотрела в окно и вспоминала:
Колоколов средневековый
Певучий зов, печаль времен,
И счастье жизни, вечно новой
И о былом счастливый сон5.
«Все это глупость, – подумалось ей. – Моя бабская глупость. Не послушалась и поперлась в такую погоду! А Илья – разумный человек. Ну кто сегодня пойдет шляться по городу? Только умалишенные, верно. И злюсь я на себя, потому что сама виновата. И я еще обижаюсь. Все, домой, в номер. Быстро в душ, и к нему под бочок. Под самый любимый на свете бочок – и больше мне ничего не надо. Только бы не заболеть, господи! – повторяла она. – И только бы не заблудиться!»
Заблудилась, конечно. Снова ходила кругами и проклинала себя.
Норов, видите ли, проявила! Столько лет сидела тише мыши и не спорила. И вдруг на тебе! И кстати, почему? Не понимала сама. Уф, наконец родная гостиница! Нашла, слава богу.
Чернокожий красавец у стойки поднял на нее удивленные глаза: сумасшедшая русская! Прогулка в такую погоду! Смущенно, словно оправдываясь, Ника жалко улыбнулась и бросилась к лифту. Невыносимо хотелось под горячий душ и в постель.
Илья лежал на кровати и смотрел телевизор. На экране довольно облезлый старый лев вяло терзал антилопу.
Ника вздрогнула и поежилась: «Господи, ну как на это можно смотреть?» Нет, все-таки мужики странный народ. Странный и кровожадный».
Илья повернул голову и, оглядев ее с головы до ног, ухмыльнулся:
– Ну что, нагулялась? И как оно там? – кивнул на окно, по которому струились струйки дождя.
– Хорошо, – слишком бодро ответила Ника. – Все равно хорошо! Венеция, знаешь ли, прекрасна при любой погоде!
– Ну да, – усмехнулся Илья. – Даже в раю бывают дождливые дни, как же, помню!
Она скинула мокрые сапоги, куртку, влажный свитер и брюки.
– Ну а как ты? Чем занимался?
Блаженно улыбаясь, Илья сладко зевнул и потянулся:
– Я? Да у меня все отлично! Часик поспал, потом заказал кофе. Потом принял душ и вот – лежу и балдею!
Ника бросила короткий взгляд на экран: теперь антилопу терзала уже целая семья, мама-львица и пара «младенцев».
– Ага, балдеешь. Понятно, есть отчего.
Побежала в душ, встала под горячую струю и замерла от счастья – господи, и чего выпендривалась? Здесь же так хорошо!
Заказала чаю с мятой, выпила и уснула. Сквозь сон слышала, что любимый по-прежнему смотрит телевизор. Правда, звук поубавил – ну и на этом спасибо.
Проснулась, когда за окном было темно.
Илья уже спал.
Ника потянулась к нему, осторожно прижалась лицом к его плечу, не решаясь прильнуть всем телом. Он чуть скривился, дернулся, как от щекотки, и перевернулся на другой бок. Ника тяжело вздохнула, легла на спину и стала смотреть в потолок.
Ну почему так грустно? Почему? Человеком Ника была ровным, без рефлексий. Переменами настроения не страдала. Ну и вообще считалось, что у нее прекрасный характер. Что это с ней? Да, погода сущее барахло. Да, она была не права. Но все равно за окном Венеция и они вместе, только вдвоем! Илюшка, родной и любимый, рядом – ну что еще надо?
Спать, спать. А что еще делать?
Проснулась она в следующий раз, оттого что услышала тихий, приглушенный разговор – его голос доносился из ванной. Осторожно, боясь, что заскрипит старый рассохшийся пол, подошла к двери – всего-то полтора шага. И замерла, превратившись в сплошное ухо.
Да, нехорошо. Да просто отвратительно, что уж тут! Ее воспитывали совсем иначе: Ника никогда не залезала к нему в телефон, не заглядывала в его ежедневник. Никогда, честное слово! Никогда не интересовалась подробностями его семейной жизни. Нет, кое-что, разумеется, знала: женат он пятнадцать лет, на одногруппнице, первая любовь. Через два года после свадьбы у них родился сын, через четыре родители построили им кооператив. Ну а дальше – гарнитур, автомобиль. Одним словом, семья. Жили по-разному, в том числе и материально, бывали и тяжелые времена.
Но он сумел сделать карьеру, создал на паях консалтинговую компанию, раскрутился и стал обеспеченным человеком. Все сам, все один, без чьей-либо помощи. Жить стало веселее – появились деньги.
Про его жену знала только, что ее зовут Татьяной. Про сына чуть больше – мальчик Ваня, лентяй и обалдуй. Нормально, сейчас они все такие. Да, есть еще теща, Виолетта Леопольдовна. Как имечко, а? Леопольдовна занимается отпрыском, кажется, больше, чем мама. Мама типа работает – впечатление именно такое, именно типа. Три раза в неделю эта Татьяна в юридической компании товарища своего мужа консультирует граждан по вопросам разводов. И, скорее всего, особо не утруждается. Но это не наше дело, как говорится. Хотелось бы Нике одним глазком взглянуть на эту Таню, законную, так сказать? На этот вопрос ответить сложно. И да, и нет. Да, потому что любопытно. Нет, потому что страшновато. А вдруг этот юрисконсульт окажется писаной красавицей, а значит, шансов на то, что он в один прекрасный день с ней разведется, совсем нет?