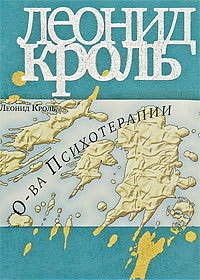Buch lesen: "Острова психотерапии"
© Леонид Кроль, 2009
Многое из того, о чем рассказано в этой книге, я помню и понимаю иначе, чем автор, но это неважно. Что важно?
Как порой говорят в начале своих выступлений на конференциях группаналитики, «I have a fantasy…» Моя «fantasy» проста: герои книги, жители «островов психотерапии», вряд ли будут помянуты своим ближним кругом с такой подробностью, нежной иронией, уважительной независимостью оценок. А они того стоят, и – как ни странно – рассказать об этих людях и их деле следует именно нам.
Там, где их видят часто, где их высокое мастерство и человеческие слабости привычны, многое кажется само собой разумеющимся. К тому же – интересы, отношения, долгая история сообществ, а стало быть, политика… Мы же, оказавшиеся в нужном месте в нужное время, запомнили и оценили все – потому что эти встречи были для нас событиями. Удивительно, но это мы понимали даже тогда.
Конечно, «былое нельзя воротить и печалиться не о чем, у каждой эпохи свои подрастают леса», но именно сейчас важно не забыть, что в нашей человеческой и профессиональной жизни однажды случилось вот это: невозможное, непредсказуемое, в те годы еще ни на каких весах не взвешенное. Фантастический выигрыш, которого никто не ждал. Счастье снова стать «первоклашками», оставаясь взрослыми и все понимающими. Закончились ведь не только международные учебные программы со «звездными» командами тренеров, с пятью-семью (а то и десятью) годами вживания в метод, с возможностью бесконечно экспериментировать, находясь в ученической позиции, и задавать глупые вопросы, с «русскими обедами» по вечерам. Много больше закончилось: тревоги, драйв и надежды 90-х, нашей второй молодости. Психотерапию же иногда называют «освобождающей практикой», определяют как «содействие изменениям»… Даже время и место рождения профессиональной психотерапии – Вена, начало прошлого века – напоминает о связи этого престранного занятия со скрипом в механизмах распадающихся империй.
Сегодня мы бы задали героям этой книги другие вопросы, но свидание окончено: «Нас отпустили на поруки на день, на час, на пять минут…» И когда мы порой видимся на конференциях, это по-прежнему приятно, но «за кадром» всегда остается ощущение короткого и пронзительного воспоминания о познакомившем нас ярком, странном (чтоб не сказать – сумасшедшем) и навсегда миновавшем времени.
В нобелевской лекции Иосиф Бродский отвечал слишком известной цитатой о красоте, которая «спасет мир», примерно так: мир спасти, по всей вероятности, уже не удастся, но отдельного человека можно…
Эта книга – об отдельных людях, избравших именно этот путь и следующих ему во времена удачные и не очень, под пронзительным ветром перемен и в густом тумане ложной и временной стабильности. И о том, что наши «острова» тоже, может быть, услышат чей-то крик: «Земля!» – ведь никакие перемены не оказываются последними, а Земля не только становится все меньше и тесней, но все-таки еще вертится.
Екатерина Михайлова
Заповедник времени
Я написал эту книгу случайно. Дело было так. Неожиданно я стал читателем, а сразу за этим и писателем Живого Журнала. Доступность выхода на публику показалась мне большим подарком. Притом, что и до того у меня было больше сотни статей и несколько книг. Но было и ощущение, будто работаешь в подвале, в своеобразной подворотне жизни, из которой в свой час надлежало выйти на свет.
А тут на вроде бы виртуальных, но совершенно живых просторах Интернета все было быстро, и легко заполнялась пропасть между «выглаженным» текстом печатных изданий и бездной черновиков – продвинутым «бормотанием» для себя в надежде достать нечто, интересное другим. В этом я прежде всего увидел возможность редактировать себя, но не заглаживать. Так, совершенно неожиданно, появилась новая «песочница», где можно было играть в свои игрушки, надеясь при этом, что они быстро (в режиме реального времени) придутся по душе и другим.
Видимо, именно этого мне и не хватало. Второй существенной находкой оказалось открытие рек и озер времени. Как каждый нормальный человек в рамках основной жизни, я знал, что время проходит и постоянно течет, делится на прошлое и будущее: с единственным ускользающим мгновением между ними – настоящим. Однако это знание не так уж тесно связано с пониманием, что есть лучшее для тебя время, которое не стоит на месте, но пребывает в некоем личном заповеднике.
Там есть свои успехи, удачи, заслуги, находки, приятные сказанные слова и пройденные испытания. И с какой, спрашивается, стати отдавать эти приобретенные в течение жизни драгоценности исключительно абстрактному прошлому? В таком настроении и при таких мыслях я приступил к прогулкам по собственному заповеднику, к встречам с людьми. Вдруг выяснилось, что некоторые из них изменились, а с другими я уже давно не здоровался.
А это заповедное пространство было совсем не некрополь, а скорее Элизиум, место Вечности, где живут платоновские идеи или вечные ценности. В этом личном Пантеоне можно было иронически и на равных общаться с Высоким и его воплощениями, с чем суждено мне было встретиться в жизни. Неожиданно это оказалось весело и интересно.
Можно было что-то додумать и выразить, вернуться и сопоставить. Так повелись несколько линий моего рассказа. И с удивлением я стал замечать, что чем больше я пишу, тем больше узнаю и дальше проникаю в эти совсем не такие уж чужие мне жизни.
Со многими из этих людей, которые стали появляться в моем личном заповеднике, я давно не виделся, скорее всего, с большинством не увижусь уже никогда. И вдруг это потеряло значение, они стали близки, более того, появилась возможность всерьез (в чем я почти уверен) заглядывать в их жизни. Я как будто сообщал им частички жизни, этакой особой витальности, думая о них, в чем-то отдавая тепло, полученное мною ранее.
Стало совсем неважно: помнили и знали ли некоторые из них меня. В моем рассказе полилось само Время. Стало интересно открыть, понять и сопоставить закономерности – пусть маленькие, как будто рассыпанные осколки сгущенных событий в магните различных судеб.
Еще одной важной частью моих размышлений и текстов был полемический задор. Он возник внезапно, как будто бы выскочил из-за угла в ответ на тогдашнюю дискуссию, посвященную одному «неправильному психологу», действительно нарушившему многие хорошо известные правила.
Однако шквал обрушившихся на него проклятий был явно больше и страшнее, чем его действия, «пятнавшие высокое звание», и претензии на психотерапию. Нельзя было даже представить такого вопля сорвавшихся на вой голосов. Казалось, что злые дети вовсю хотят казаться взрослыми, расталкивая и роняя друг друга, бегут схватить нечто брошенное или потерянное.
Для наглядности приведу несколько комментариев (из тех, что не злоупотребляют ненормативной лексикой), появившихся в Живом Журнале и относящихся к герою этого скандала: «Надеюсь, вы умрете мучительной смертью». «Слышь, извращенец, а у тебя самого какой конкретно диагноз?» «А ты не пробовал в реальный дурдом обратиться за помощью? Хотя тебе уже вряд ли что-нибудь может помочь…»
В этом хоре обвинителей было столько людей, которые были правы, понятливы, пылали справедливым негодованием, всегда были готовы сослаться на образцы и правила, а также на традиции и устои, что оставалось непонятным только одно. Почему вокруг не существует ничего подобного нормальному профессиональному сообществу, с его реальной жизнью, общением, возможностью создавать такую атмосферу, чтобы можно было дышать, учиться и вызывать у других желание присоединиться к этому?
Сущность этого воздуха и была именно тем, что я стал описывать. Мне захотелось передать сам живой звук истории, частью которой я стал, не только мгновенный рисунок событий, но и их фон, который не менее важен, чем сами события.
Когда я начал писать, то и понятия не имел, что текст будет расти как бы сам собой, диктовать нечто новое, складываться в отдельные главы, оформляться в книгу. Это произошло в поездке, совсем, казалось бы, ненужной, странной. Я был в Египте, совершенно один, без всякого желания ходить на пляж и вести курортную жизнь.
Я тогда выпал из реального времени: поздно ложился спать, потому что писал ночью; появлялся на пляже, когда солнце начинало заходить; плавал короткое время утром, при этом смотрел на рыб в глубине больше, чем на людей вокруг.
Люди в моем рассказе были гораздо зримее и живее, чем те, что находились рядом со мной на курорте. И описываемое время, такое зримое, реально ощущаемое, ярко проявляясь, уходило уже навсегда. С грустью я перекладывал его в какой-то архив, и казалось, что коснуться вживую тех событий уже не придется.
В рассказе я опять был очень молод, потому что всплыл период, когда было ясное чувство, что все только начинается. Я не знал, что заканчивается сейчас, когда я писал эту книгу, но я ясно ощущал, что уже надвигается другая эпоха.
Это был текст о началах. Об истоках, о блаженной юности, когда неважно, сколько тебе лет на самом деле, а важно, что у тебя есть силы с улыбкой начать опять с чистого листа.
Через мой рассказ конечно же просвечивает прошлое, но оно не мешает, потому что от этого только ярче виден сегодняшний день.
Собственно, тогда, когда события происходили, в той дали никакой безмятежной юности не было, все было наполнено озабоченностью, интересом, желанием успеть. В том-то и дело, что пережить это по-настоящему вдруг оказалось возможным именно сейчас, по мере появления льющихся строк моего повествования.
Миры Малкольма Пайнса
«Групповая психотерапия – это когда вы и еще 10–11 вполне приличных с виду людей садятся в кружок и ждут, что ведущий группы будет что-то делать. Чего – ха-ха! – в большинстве подходов группа так и не дождется и начнет бултыхаться сама, обычно в форме безобразных склок».
Екатерина Михайлова, «Словарь скептика»
Дом и «Практика»
Я познакомился с Пайнсом на Международной конференции по групповой психотерапии в Амстердаме в 1989 году. Это был мой первый выезд из страны, состояние которой тогда представляло из себя нечто среднее между разрухой и целиной. И то и другое было явлено в избытке, причем часто буквально через дорогу. Мы были бедны как церковные мыши, потому что время, когда деньги не особенно нужны и их вроде как всегда хватает, уже прошло, а время, когда пришли другие деньги и способы их зарабатывать, еще не настало. Голландия, где добывавший на пропитание пением на улице человек свободно и с шиком говорил на четырех языках и был одет так, как, по нашему мнению, стоило быть одетым, например скромному лорду, была для нас совершенно другим миром, иной планетой. Впечатлений было так много, что глаза у нас были, как у собаки из андерсеновской сказки про волшебное огниво, которое она охраняла от настырного солдата и прочих проходимцев.
На конференции я чувствовал себя, словно пасечник из настоящей деревенской глубинки, привезший свой хороший мед и вдруг попавший в американский супермаркет. Все вокруг было «расфасовано» и вращалось по своим орбитам, явно получая от этого немалое удовольствие. Когда по воле сентиментального, своевольного, жестокого и несчастного Андерсена заглядываешь эдаким мальчиком из сказки в большие светящиеся окна, где другие счастливые дети едят праздничную индейку у елки с зажженными огоньками, то поневоле немного теряешься от осознания того, где ты на самом деле. Одновременно кажется, что там тебе не бывать никогда, и чувствуешь, что нужно попасть туда во что бы то ни стало. То, что этот мир в принципе существует, уже являлось очень большим подарком.
Малкольм Пайнс прошел все мыслимые стадии и карьерные ступеньки для человека своей профессии. У него было все: хорошее образование, правильные традиции, умение нравиться и учиться, участие в том, что было самым новым и интересным в разное время, последовательность в достижениях, склонность к интеллектуальной игре, желание работать. Без него не могла обойтись ни одна конференция.
Если он не украшал ее своим присутствием, статус события значимо понижался. Ему давно не нужно было прикладывать видимые усилия, чтобы удерживать место законодателя мод в своей области. Лондон был своеобразной столицей Европы в том, чем он занимался, и не в последнюю очередь – благодаря именно усилиям Пайнса.
В один из своих приездов в Европу мы жили у Пайнса в его небольшой квартире в Лондоне, находящейся в двух кварталах от практики, чтобы не ездить домой. Вряд ли дорога заняла бы у него больше сорока минут. Но почему бы и нет?
По квартире легко было определить разнообразие вкусов и интересов хозяина. Это был мужской дом, убиравшийся приходящей прислугой и где уходом за собой также не пренебрегали. Здесь были бы уместны строки Пушкина: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».
Библиотека была не слишком велика, но весьма разнообразна. Она не производила впечатления систематического собрания специальных книг. Скорее это были книги «на случай», для чтения перед сном, попавшие сюда в качестве случайных оказий или подарков, а также купленные по дороге. Там было немало дорогих изданий и причудливых названий. Видимо, когда у них «все уже было», по крайней мере в последние двадцать лет, покупка книги как подарка требовала особого изыска. На столике лежали отдельные журналы и пара книг по инвестициям. Ясно, что не в сундуках хранились заслуженно заработанные деньги. Квартирка была чуть темновата, несколько старомодна и напоминала уютную нору для человека, существенная часть жизни которого проходит публично, поневоле напоказ. В этой квартире вряд ли часто принимали гостей. Дело было под самый Новый год, и лондонское всеобщее оживление и наше состояние легкой приподнятости чуть контрастировали с этим жильем уже немолодого человека. На эти дни Малкольм перебрался в дом, и квартира была нашим замечательным пристанищем. Она казалась вполне подходящей для Шерлока Холмса, правда, без камина, да и Ватсону тоже там вряд ли хватило бы места.
В какой-то другой приезд Майкл водил меня пообедать в вегетарианский ресторан по соседству, и казалось, что там его все знали уже лет тридцать. Он как бы между делом представил меня хозяйке, и это был еще один маленький повод для них уважительно кивнуть друг другу. В общем, в этой квартире он слегка играл роль чудака-профессора, словно выходя из обычной, довольно жесткой, «накрахмаленной» манеры, где дистанция создавалась как бы сама собой. Это искусство дистанции, артикуляция всего, что говорилось и делалось, было особой манерой, которой очень хотелось научиться. В этом было проявление профессионализма: отмерять расстояние, выбирать точную меру теплоты, легко взвешивать естественность вовлечения в данный момент.
Он не был с тобой на одной дистанции все время, он не давал ясно понять, как относится к тебе сейчас; он не отдалял, но и не приближал. Казалось, к нему нельзя было подойти просто так, без легкой остановки, как бы спрашивающей разрешения войти. С особой почтительностью с ним общались люди, много лет проведшие рядом. Его коллеги-ровесники были с ним проще, но и тут он особой улыбкой или вскидыванием руки дозволял это. Видимо, входной билет в эту близость стоил лет тридцати. Это еще не возраст английского парка, но все же. Мне кажется, он мог произнести одни и те же слова приветствия шестьюдесятью разными способами, не меняя при этом ни громкости голоса, ни его напряжения. Это могло выглядеть автоматизмом кукушки, выскакивающей при бое часов, но оттенки этого боя всегда были разными.
Когда я звонил Джону Шлапоберскому с какой-нибудь глупостью по поводу освоения этого нового для себя мира, а тот был слегка занят, то он говорил что-нибудь вроде: «Мне очень неловко. Может быть, я немного груб. Но я могу перезвонить тебе через полчаса. Спасибо». Это было очень артикулированно, даже элегантно, и я знал, что он действительно занят. Если же я звонил Малкольму Пайнсу узнать, удобно ли от него сделать звонок в Оксфорд, он обходился всего двумя-тремя междометиями. В его «о, да» всегда можно было прочесть и безукоризненную вежливость, и меру расположения, и очевидность согласия. Он был гостеприимен самим фактом своего присутствия. Лаконичность и отточенность жеста были его капиталом интеллектуального свойства не меньше, чем профессиональные навыки.
Это была часть сеттинга. Пайнс выслушивал, кивал, говорит свое «о, да», делал неуловимый жест, и монолог, который, казалось, мог длиться долго, прерывался. Это была потрясающая английская выверенность слов и движений.
Однажды в гостях у Шлапоберского мы были «главным блюдом». На нас съехались посмотреть: мы были из новой, неизведанной страны, возможно, пригодной для интеллектуальной колонизации, – англичане знали в этом толк не понаслышке. В то время уже не удивлялись, что мы едим, пользуясь ножом и вилкой, и не произносим социалистических лозунгов всуе, но все же им было непривычно видеть людей, говорящих на сносном английском и понимающих детали профессии, которые казались им закрытыми ключ от непосвященных. Гости общались друг с другом и с нами непринужденно и выверено, словно по секундомеру. Иногда образовывался общий разговор, иногда шутка проходила искрой, связывая людей по цепочке. Это было столь живое, ненапряженное и при этом сдержанное общение, что у меня появилось ощущение, будто я попал в балетную труппу и неожиданно стал легко танцевать вместе со всеми. Мне в то время казалось, что в нас было все еще много лишнего, какой-то глины, которую мы не успели с себя отрясти. Избыток громкости, неточность выражений, ощущение «одетого во все не по росту». Своеобразное чувство вечно спотыкающегося и не знающего, куда деть руки, разночинца, попавшего в почему-то заинтересовавшееся им светское общество.
Этим людям было присуще иметь ту фигуру (и полагающиеся к ней аксессуары), которая была действительно их. В отличие от нас, русских, которым это могло и не принадлежать, будучи взятым как бы напрокат. Сеттинг и порядок пробрались и сюда, причем без тени принуждения. И дело было не в поведенческих нюансах, просто они действительно были не только воспитаны, но и хорошо «проработаны», их дело очень способствовало этому. Как никогда до того (при всем предшествующем моем опыте) становилось понятно, насколько психотерапия уравновешивает бытовые нюансы и сглаживает отрицательное. Как опытному врачу о многом скажет пульс, так и здесь вибрации и токи, исходящие от человека, давали это знание.
В группаналитическом подходе такое «обтачивание», уборка лишнего касается не только внешних проявлений (это как раз малая часть айсберга), но и выравнивания ассоциаций, случайных мыслей. Это не голливудский образ психотерапевта, который пылесосом высасывает из головы все лишнее. Это кропотливая британская тщательность и любовь к хорошим вещам. Порядок и традиции в мелочах и всюду, где они могут пригодиться. А значит – везде.
Малкольм Пайнс был человеком с биографией, которая прошла у многих на глазах и была доступна всеобщему обозрению. Это был достойный пример того, что жизнь человека не просто оставляет метки и продолжается в других жизнях, но и того, как она разворачивается в своих производных: публикациях, общественных выступлениях, путешествиях, учениках. Пайнс был еврей по происхождению, в Англии он жил с детства. Однажды в общем разговоре Джон Шлапоберский сказал, что так до конца и не чувствует себя англичанином. Он приехал сюда лет двадцать пять назад.
Малкольм ответил, что он себя им чувствует. И он был им. Как всегда, Пайнс был лаконичен и точен, и было ясно, что за сказанным стоит больше, чем прозвучало.
Он немного, но очень хорошо говорил о своем отце. Тот был военным врачом. Пайнс считал, что ему самому до отца далеко. Обратной стороной лаконичности является недостаток сведений о его биографии. Мне сейчас действительно захотелось узнать о нем больше. Видимо, в этом и состоит главная награда от написанного тобой. Начинаешь вдруг больше видеть из того, что было перед глазами раньше, и больше хотеть. Было бы очень интересно прочесть биографию Малкольма Пайнса. Не героическую и официозную, а про жизнь человека, сделавшего себя своими руками. Прошедшего разные слои времени, своеобразные Атлантиды, от которых так мало осталось. Теперь кажется, что присущий ему стиль джентльмена, основательность и явный успех только такими и могли быть. Пайнс, несомненно, не был чужд преуспевания.
Пайнс начинал в конце пятидесятых. Почему он не пошел обычным путем, проторенным другими успешными выпускниками медицинских школ того времени? Где прошла тропа аутсайдера, которая постепенно вывела его на респектабельную вершину? Ведь группанализ был «окраинным» и странным явлением в те годы. Это они, создатели Института и Ассоциации группового анализа, сделали его практически безупречным в профессиональном сообществе и в социуме в целом. Они прошли между более чем консервативным психоанализом, как бы застегнутым на все пуговицы, и странностями группового движения, которому еще только предстояло выплеснуться в конце шестидесятых.
Когда Пайнс говорил о своем отце, его глаза чуть увлажнялись. В психотерапии уметь чувствовать, реально входить в переживания, ощущать их мгновенную ценность, выходить и оглядываться назад уже из другого состояния, подводя маленький итог, – это разные стадии одного процесса. И важно не путать одно с другим. Это как лифт, двигающийся между этажами; или поезд, идущий вдоль красивых станций: можно где-то и выйти на время, и можно вернуться обратно. У кого-то это устроено удобно с самого начала, кому-то эту способность надо выстроить. Не делая этого, мы можем оказаться в собственном замке, построенном по эскизам Синей Бороды: «Сюда не заглядывай, а в этом шкафу, скорее всего, скелет, а здесь просто давно не прибирали». И все бы хорошо, но как бы не остаться жить в этом небольшом закутке из собственных возможных пространств. Да и тени по углам могут казаться гораздо больше, чем они есть на самом деле. И наступление дневной реальности, когда тени на время исчезнут, явно всех вопросов не решает. Тут и бывает полезна психотерапия.
В доме Пайнса в Лондоне было видно, что он живет здесь давно. Лондон – хорошее место для жизни, но его сын предпочел Калифорнию, а одна из дочерей – Париж. Милая и тонкая жена была почти не заметна, прекрасно улыбалась и совсем не походила на мымру-англичанку, с поджатыми губами и недовольно подглядывающую за мнимым беспорядком у соседей. Было очевидно, что она не просто хозяйка в доме, а по-настоящему создает уют своему мужу.
В кабинете Пайнса традиции намечались пунктиром. На столе была подаренная женой Фулкса фотография Фрейда с его собственной надписью. Все было немного запущено, слегка небрежно, как будто хозяин предпочитает старые, но очень удобные тапочки, менять которые на новые нет никакой нужды. Это был вполне устоявшийся мир, давно не напоказ, где все было устроено так, чтобы хотелось возвращаться из постоянных отлучек. На обеде была его сестра Динора Пайнс, известный психоаналитик. Когда речь заходила о ком-то, она привычно и хищно спрашивала: «А он психоаналитик?» Элегантная, немолодая и очень активная дама, для которой, видимо, пребывание на одном месте в качестве терапевта было наказанием за какие-то грехи в прошлых жизнях.
Сам Пайнс явно не делил человечество на психоаналитиков и их клиентов, оставляя при этом за бортом всех остальных как чистое недоразумение. Его вообще отличало особое внимание к деталям – свойство высоко летающей птицы, наделенной особо острым зрением. Кажется, такой птице даже неохота спускаться на землю, так хорошо там, в высоте, однако Малкольм изредка ронял точные замечания, ведя линию разговора и поддерживая беседу.
Он показывал свой дом, широко распахивая двери комнат, подшучивая над тем, что, например, в гараже оказались какие – то странные запчасти сына, гонщика-любителя, о существовании которых хозяин, кажется, и не подозревал.
Особенно мило было то, что, по – видимому, давно полуопустевший дом никак не приукрашивал себя. Все в нем было честно. Когда у Айрис (жены Малкольма) случилась депрессия, она стала ходить в церковь и петь в хоре. А потом стала просто петь. Это помогло. Таблетки она решила не пробовать. В этом жесте свободного выбора (учитывая профессию мужа), в ее самостоятельности и естественности был особый шарм.
Казалось, что это мир, где люди не совершают ошибок, разве что понарошку, чтобы не было скучно, и можно было их быстро исправить. Вот что поразило меня в группанализе с самого начала. Вроде бы те же группы, которые, казалось, мы хорошо знали. Однако мы строили наш велосипед из готовых подручных деталей, а ведь многие запчасти можно было довольно легко производить в мастерской с нужным оборудованием. В методе была простота и предсказуемость. Но также и взгляд сверху от «сильной птицы высокого полета», умение камнем падать в нужную точку.
Метод был вполне обжит Пайнсом так же, как и его дом. Малкольм был частью «Группаналитической Практики» – именно такое название носили заведение и офис, где практиковали люди, в свое время образовавшие это направление, создавшие Институт и Ассоциацию под таким же названием. «Практика» помещалась на первом этаже дома в самом центре, и у каждого там были свои комнаты. По-нашему, это можно было бы назвать коммунальной квартирой, однако различия были налицо. Нужно было ждать годами, чтобы быть принятым в сообщество, заслужить профессиональное признание и получить право на прием клиентов и групп именно здесь. Те несколько человек, которые много лет назад начали это дело, до сих пор были вместе. И что было еще важнее, никто толком не знал, каковы на самом деле их отношения.
Я как-то спросил про это Джона Шлапоберского, моего проводника и тогдашнего партнера по надеждам на внедрение группанализа в России, тончайшего и очень профессионального человека, который провел рядом с Пайнсом последние десять лет. Он с восторгом подтвердил, что понять, каковы их отношения на самом деле, невозможно.
Они по-прежнему работали рядом, писали книги, выступали на конференциях, были частью того истеблишмента, который приглашают на телевидение и на специальные обеды, где принимают интересных гостей. Эти люди были не просто тренированы, они были дизайнерами и законодателями неписаных профессиональных и поведенческих мод. Это в который раз был тот случай, когда избранные разночинцы, последовательно и настойчиво осуществляя культурную и человеческую работу с другими, проводили ее и с собой, незаметно превращаясь в аристократов. Для меня же было открытием то, что эти моды действительно существуют.
Пайнс занимал в «Практике» две довольно большие и красивые комнаты. Вообще от офиса было ощущение надежности и устойчивости при полном отсутствии излишеств.
Особенно мне почему-то запомнились очень высокие потолки. Люди работали здесь вместе давно, у них уже были не только представители второго поколения, называвшие первых своими учителями, но уже, пожалуй, и третьего.
Это были (не побоюсь банальности сравнения) большие деревья, со своей мощной кроной и тенью, которые, однако, не забивали других, нуждавшихся в свете, и составляли истинное украшение «Практики».
Людей в «Практике» связывали не только десятилетия и вместе выращенный и всеми оцененный успех, их связывало понимание бренности жизни. Как достойно встретить то, что приходит за зрелостью, не было для них простым вопросом. В «Практике» занимались работой с людьми, группами. Это было поколение, которое «вышло на работу» еще до того, как бизнес вошел в моду и оттеснил на обочину иные занятия. У них была всего лишь одна «техническая комната» и один секретарь на всех.
Эрл Хоппер, член «Практики», ранее – президент Международной ассоциации групповой психотерапии, ученик Малкольма Пайнса и влиятельная фигура в рассматриваемом сообществе, был американцем, последние пятнадцать лет живущим в Англии. Он и оставался американцем, когда хотел. Вторая его жена была очень уж англичанкой; таких, как она, видимо, специально подсушивают и что-то делают такое, чтобы улыбка не была слишком широкой. Жена, естественно, тоже была психотерапевт и так много работала, что зашить дырочку на рукаве у кофточки или купить новую явно не успевала. В отличие от нее Эрл был человек сочный, в любом разговоре с ним чувствовалась размашистость и желание пожить еще немного здесь, а потом не без удовольствия еще где-нибудь.
Было заметно, что он не спешит домой, и вообще ему хорошо. Эрл как-то пригласил меня к себе в офис, а потом на ужин. Офис произвел на меня большое впечатление своей масштабностью. Эрл хотел и явно умел производить впечатление на клиентов. Четыре комнаты весьма разумно использовались в смысле функций. Конечно, одна была для групп (они хоть и небольшие, но где попало людей не посадишь). Другая – для индивидуальной работы. Имелся кабинет с библиотекой, письменным столом и техникой. И гостиная. Кухня не в счет. Все-таки американский размах давал себя знать. Англия ведь не такая большая страна. Но очень уж хорошо и тщательно в ней все устроено. В девяносто четвертом контраст между Англией и нашей отечественной жизнью уже не был так разителен, хотя у нас по-прежнему не выступали на улице люди с гитарой, знающие четыре языка. Видимо, потому, что все же у нас холоднее. Не в гармошке же дело.