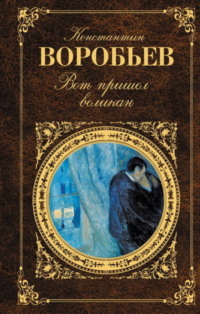Buch lesen: "…И всему роду твоему", Seite 3
– Ну хорошо. Тогда подойдите, пожалуйста, ко мне сегодня в столовой.
– Да-да, не беспокойтесь, – нетерпеливо сказал Сыромуков. Ему было досадно за свое вранье и хотелось поскорее отправить письмо Денису. Почтовые ящики – один красный для авиаписем и другой синий, под простые, – стояли на табуретках в вестибюле. Он опустил письмо в красный и тут же подумал, что напрасно написал Денису про петухов и солнце. Это может вызвать у него тоску по весне, а рассеянности на уроках там и без того хватает. Ему надо писать отсюда деловые письма. Серьезные. Занятые. В конце концов лечение – тоже труд, а не удовольствие. Как для него там математика, например. Или физика. И свободного времени, надо написать ему, тут не очень много. Везде и всегда нужен труд и труд. Только и всего!
«А ты в самом деле начнешь тут лечиться, – сказал себе Сыромуков. – Ты будешь выполнять все процедуры, что назначит врач. Кроме, конечно, физзарядки на «Храме воздуха». Это тебе не обязательно. Заряжаться можно самостоятельно у себя на балконе. А все остальное – беспрекословно!»
Он вернулся в корпус и отыскал кабинет, где проводились антропометрические измерения. Рост его остался прежним, давним, военным, – сто восемьдесят три сантиметра, а вес достиг семидесяти пяти килограммов: на четыре больше, чем было шесть лет назад, когда он взвешивался в этом кабинете.
На воле было чисто и высоко. Вершина Эльбруса уже сияла слепяще и знойно, а в распадах гор текуче копился сквозяще-сизый туман, и казалось, что там таится какая-то нежная подарочная тайна миру на этот день. Площадка перед корпусом оставалась пока в тени, но все скамейки были заняты курортным людом в тренингах – новых, не вылинявших и еще издали пахнущих уксусной эссенцией. Курортники сидели прочно и молча, и все держали в руках голубые фаянсовые кружки с парящими на них золотыми орлами – попили натощак нарзан и теперь дышали горным озоном, ждали солнца и целебного действа выпитой воды. Площадку окаймляли тополи и айвы, и под ними, с метелками, мешками и шестами-битами, копошились санаторные уборщицы – обивали и сгребали листву. Они поглядывали на скамейки, приглушенно переговаривались и хохотали, а там делали вид, будто ничего не замечают и не испытывают никакой неловкости. Было ясно, что уборщицы потешались над толстяками и толстухами, считая, что для их здоровья полезно порастрясти жир, и Сыромуков весело согласился с ними. Он чувствовал, как звенит в ушах от голода, потому что не ел целые сутки, но тело ведь не знает, что это не от беды, а только от прихоти. Ну, не совсем от прихоти, а и от сердца, потому что оно лучше работает, когда хочется есть, и еще из-за солидарности с Денисом, если он там не поужинал почему-либо вчера. Он подумал, что хорошо сделал, захватив с собой пять белых рубашек и кучу носков, – можно будет менять каждый день, и хорошо, что на внутреннем кармане пиджака живет оранжевый петух и что у берета сам собой получается задорно легкомысленный напуск. Уборщиц, пожалуй, надо было бы чем-нибудь одарить. Подойти и одарить ради этого несказанного утра, невообразимого неба и той хрустальной таинственности, что залегла в ущельях гор. Тут уместны были бы небольшие шоколадки в ярких обертках. Или крашеные яички! Тогда можно было бы – в шутку, понятно, – сказать каждой из них: Христос, дескать, воскрес, и почтить древний обряд с поцелуями… «Старый ты пшют в берете, – поощрительно сказал себе Сыромуков. – Лысину-то прячешь небось? Маскируешь? Что ж, недолго осталось…» Он попятился назад, в вестибюль, потому что сердце споткнулось и замерло, подскочив к гортани, стремительно набухая там теснящей мукой зажатости и страхом. Как всегда, руки его вскинулись к голове, а глаза метнулись по сторонам, но сердце опало на свое место, будто вырвалось из петли, и трижды толкнулось сильно и больно.
«Это от перемены климата, – безгласно прокричал себе Сыромуков. – Это сейчас пройдет, ты только дыши поглубже!»
Он стоял у колонны вестибюля и обеими руками ненужно трогал и трогал берет, ощущая лопатками ознобную прохладу шероховатого туфа. «Прохлада – хорошо, это все равно что холодный компресс на грудь, если успеть с ним вовремя, – думал Сыромуков. – Не надо только показывать вида, что тебе плохо. Поправь еще раз берет и вздохни поглубже. Тут чистый кислород… И правильно делают эти жизнелюбивые люди, что сидят там на скамейках и дышат озоном. И ничего нет зазорного в том, что все они в одинаковых нелепых тренингах. Кому это мешает? И пусть они пьют свой сульфатный или доломитный нарзан, раз это им нравится…»
Когда уже можно было оставить берет в покое, Сыромуков небрежно, как леденец против курения, кинул в рот таблетку валидола и осторожным куцым шагом, чтобы не сбивать дыхания, прибедненно миновал скамейки. Недалеко за ними был, оказывается, бассейн без воды, окруженный зелеными кустами туи. В тесных нишах этих кустов скрывались узенькие, с крутыми неудобными спинками лавочки; никому бы и в голову не пришло прилечь на них. Сыромуков примостился на лавочке и стал глядеть в небо, запрокинув голову и дыша раскрытым ртом, – вблизи никого не было.
– Лавочки тут – хорошо, – отвлекающе, без участия губ сказал он. – И это ничего, что они узенькие. Это ничего. А бассейн всегда можно наполнить водой. Когда угодно…
Небо уже по-дневному углубилось и посинело, и в нем обманчиво медленно плыл, звездно искрясь, крошечный истребитель, оставляя за собой бурунно-белую инверсионную полосу.
– Военные летчики тоже знают это, – на какую-то еще нечеткую свою мысль вслух отозвался Сыромуков. «То есть самые умные из них», – подумал он. Как тот француз, сбитый немцами уже в конце войны. Он был на всякий случай графом и писателем. Рыцарская такая фамилия… Запамятовалась. Да это и неважно. Потом, когда не нужно будет, вспомнится. Он сказал, что плевать хотел на пренебрежение к смерти, если в основе его не лежит сознание ответственности. Без того оно лишь признак нищеты духа, и больше ничего. Хорошо сказано. Смело и точно, – ему часто грозила смерть. Интересно бы знать, каким он бывал после этого? Тоже становился во всем сговорчивым и доброжелательным к миру? Вот как ты сейчас, когда тебя умилили эти пехтери на скамейках? Возможно. Иначе ему не удалось бы написать книгу «Земля людей». Как же его звали? Забыл… И все же человека всякий раз подстерегает глупость, если он подвержен страху смерти. В тот момент его покидает воля, и у него происходит распад связей. Он готов тогда благословить все сущее, красивое и безобразное, возвышенное и низменное. Все, дескать, благо, все добро и чудо. Значит, в этом случае получается, что страх облагораживает человека, поскольку он – пусть даже временно – становится доброжелательней к миру? Нет. Этого не может быть. Страх – чувство подлое по своей сути. Он всегда мешал жизни. Он прародитель лицемеров, предательства, холопства. Да мало ли!.. И все же за ним надо признать и некоторую творческую силу: он ведь учит людей приспосабливаться к условиям бытия, верно? Да, но только приспосабливаться, а не подчинять условия себе. Страх всегда обрекал человека на рабство и пресмыкательство!.. Ладно, пусть так. Но при чем тут люди на скамейках? Почему ты посчитал свое умиленное чувство к ним ошибкой? Да никто ничего не посчитал! Просто дело в том, что сытый субъект всегда опасен своим самодовольством и безучастностью. У такого умри на глазах – не отзовется. В то же время он склонен предъявлять нахально повышенные требования к деятельной личности, хотя сам всю жизнь препятствовал развитию этой личности…
«Ты бы лучше посидел спокойно, – приказал себе Сыромуков. – Ты приехал сюда лечиться, а не философствовать. Сиди и дыши… Но лечиться я не буду, – тут же подумал он. – Этого делать еще нельзя, потому что тогда наступит конец еще при жизни… Но ты ведь только что был согласен исполнять все, что предпишут врачи… Это я обещал не себе, а Денису. И взвешивался для него. Я буду принимать нарзанные ванны и циркулярный душ. Как в тот раз…»
Самолета в небе уже не было, а полоса изломалась и расплылась. Сердце еще ощущалось, только во рту тошнотворно саднило от валидола и бурно урчало в пустом желудке. Если не ходить сегодня к врачу, то сидеть тут и ждать час завтрака не имело смысла. Сыромуков помнил, что кафе в городском парке открывалось рано, и в это время там бывало чисто и пусто, и на столиках стояли вазы с красными розами. «Я закажу чебуреки, – решил он. – Или лучше шашлык и бокал шампанского. Сладкого. Между прочим, от рюмки коньяка тоже ничего не случится».
В город можно было спуститься по асфальтированному терренкуру, но рядом в алычовых и боярышниковых кустах пролетала растоптанная самочинная тропа, засоренная обрывками газет, окурками и опавшей листвой, и Сыромуков пошел по ней, – ее тут проторили, конечно, здоровые и веселые люди. Вроде того овцевода. Хорошо бы повстречать его сейчас на этой тропе. Одного, понятно. Пускай бы он шел снизу, из города, только что тяпнувший перед завтраком. «Впрочем, это невероятно», – подумал Сыромуков без всякого сожаления, потому что ему услужливо и радостно вдруг вспомнился другой человек – направщик бритв, местный старик горец с обезволивающими черными глазами ведуна. Он располагался при входе в парк у грота Лермонтова. Деревянный станок его, отдаленно похожий на прялку, был оснащен различными трансмиссиями с точильными кругами и всевозможными – латунными, бронзовыми и медными – шкивами, колесиками, шестеренками, валиками, шатунами, и все это начищенно сверкало и горело, скользило, крутилось и вертелось в разных направлениях, как только старик нажимал ногой педаль, и невозможно было отвести глаз от станка – он зачаровывал и оцепенял, как затухающее пламя в осенние сумерки. Старика постоянно окружала толпа. Он работал, а люди смотрели. Вполне возможно, что все они были сердечники, приходившие к станку, как на врачующую процедуру: возле него можно было простоять с утра до вечера и ни разу не вспомнить о сердце. Старик все время был занят, он точил собственные бритвы. Сыромуков понял это на третий день похода к нему, а в следующий раз принес две только что купленные бритвы и с тех пор направлял их ежедневно – то одну, то вторую. Старик не показывал вида, что приметил его, – точил и точил, только плату сбавил наполовину против первого раза. Его следовало повидать до кафе, отрадней будет сидеть и ждать еду, решил Сыромуков. Но какой дурак пьет с утра коньяк, да еще в одиночку! Вот если бы этот колдун с гор взял и согласился… Станок же можно будет поставить перед окном кафе, чтобы все время видеть и не беспокоиться…
Внизу воздух был теплым и вкусным – в санаторных столовых накрывали столы к завтраку. В улицах царил покой, и норовилось идти так, чтобы металлические косячки каблуков прилегали к тротуару печатно ладно, и не шаркающе, тогда возникало звонисто-чистое эхо, будто кто-то – мало ли! – идет тут при шпорах. Старика на месте не было, и Сыромуков, торопясь, заверил себя, что он, наверно, запаздывает по какой-нибудь уважительной причине. Могут же, например, возникнуть в станке неполадки? А сам он, конечно, жив и здоров. Ему тогда было… ну, от силы семьдесят, а горцы живут по полтораста и больше! Сыромукову хотелось, чтобы все в этом его первом курортном утре было справно и ладно, и он снова мысленно повторил, что со стариком все благополучно и что сам он поступил хорошо, придя на свидание с ним, – в конце концов всегда счастлив тот, кто видит в своем действии следы собственной воли. Он прошел к гроту, но вход в него оказался заделанным толстой стальной решеткой, заключившей в промозглой каменной дыре невеселый бюст поэта. Решетка не только не вписывалась в идею грота, но в корне подрывала и перевирала его смысл, и надо было искать оправдание действию тех, кто ее поставил тут, и верить, что ими руководила похвальная цель. Сыромуков, возможно, придумал бы для себя эту цель, не уходя от грота, но в верховьях парка – в стороне кафе – уже несколько раз булькающе запевал не то соловей, не то иволга, и это было пугающе маняще и невероятно: соловей в ноябре! Разъяснилось все просто и буднично: в центре парка Сыромуков еще издали увидел длинного сухопарого человека с лихими казачьими усами, вспомнил и узнал его. Как и шесть лет назад, на нем был закирзовевший брезентовый плащ с полуоторванными накладными карманами и непотребно грязная парусиновая сумка, по-побирушьи свисавшая с плеча, где он хранил запас глиняных соловьев. Маскарад с одеждой и сумкой придумал, конечно, не от добра – как-никак, он занимался частнопредпринимательской деятельностью, а товар его раскупался с ходу, и все же он не вызывал к себе сочувствия, так как всегда был почему-то остервенело зол и груб с покупателями, – надоели, наверно. В тот, прошлый, раз Сыромуков привез Денису такого соловья, но в первый же день сын разбил его и потом долго плакал и просил снести глиняные осколки в мастерскую. Стоило ли покупать соловья теперь и ожидать возможное горе? «Но этот тип засвистит сейчас специально для меня, поскольку больше тут никого нет, – подумал Сыромуков, – и «не услышать» и свободно пройти мимо него будет немыслимо». Усатый и в самом деле при подходе Сыромукова издал две переливчатые трели, свирепо глядя куда-то вбок и в сторону, и Сыромуков купил у него двух соловьев и посадил их в карман пиджака, где был изображен петух с веткой.
В кафе было чисто и безлюдно, и на столиках алели свежие астры.
Через час Сыромуков приблизительно знал, какой формы и цвета будет там у них аппарат стопорения времени – вроде портсигара из какого-нибудь лунномерцающего невесомого сплава, а кнопка – они назовут ее как-нибудь иначе, таинственней и торжественней – будет, наверно, рдяно-багряная, как человеческая кровь. Впрочем, цвет этот тревожный, и они не захотят его. Кнопка, надо полагать, будет лазурной или зеленой. Аппарат сохраняется на груди, как носили когда-то верующие ладанку, и когда человеку понадобится, когда ему станет в какое-то мгновение до сладкого изнурения хорошо и радостно жить, он дотронется до кнопки, и мгновение остановится. «Да, им, будущим, не понадобятся на костюмах гарусные петухи для бодрости, – с жадной завистью подумал Сыромуков, – но что они будут говорить о нас, господи! Неужели станут стыдиться, как стыжусь я сам Смутного времени, Малюты Скуратова, Гришки Отрепьева – да мало ли! Но Куликовская битва, но Бородино, но полковник Пестель, дворцы Варфоломея Растрелли, разгром фашизма, полет Гагарина… Нет, черт вас там подери со своими аппаратами времени, нет! Вы только тем и будете знамениты, что мы жили на земле раньше вас и доводимся вам родней!»
– Понесся! – усмехнулся над собой Сыромуков, – а Денису удивляешься, что на уроках, забывшись, он выхватывает деревянный пистолет и пуфпукает под ноги учителю!..
К гроту возвращаться не хотелось – лучше было «не помнить» о решетке и не думать ничего тревожного о точильщике, если его не окажется на своем месте. Курить бы тоже не следовало, чтобы подольше сохранить в себе ощущение чистоты и здоровья: сердце билось ровно и только чуть-чуть учащенно, но одна сигарета, подумал Сыромуков, ничего не будет значить, поскольку она с фильтром. Он пошел к своему санаторию кружным путем, мимо «Храма воздуха», и те курортники, что встречались ему, взглядывали на него любопытно и весело – напуск берета, наверно, потешал, но поправлять его не тянуло. Было по-летнему тепло, почти знойно. В горах миражно дрожал и струился разогретый воздух, и высоко над котловиной города трепыхалась большая стая голубей. Все это хотелось задержать в мире и в самом себе. Хотя бы на полдня или в крайнем случае часа на три… Но как же я узнаю, спохватился Сыромуков, что должно было быть вслед за этим! Я, скажем, застопорюсь, а на эти мертвые для меня мгновения жизнью, возможно, намечалось еще лучшее! Выходит, что я в таком случае лишусь его? Нет, это не годится! Аппарат времени не нужен! С ним можно уготовать для себя черт знает какие необратимые утраты! Надо, чтобы всегда, каждую секунду человек ждал и хотел прихода нового. Недаром ведь кто-то из великих писателей сказал, что день опять обрадует меня людьми и солнцем и опять надолго обманет меня…
Сыромуков помнил и конец этой краткой благодарственной молитвы в честь жизни: где-то упаду я и уже навсегда останусь среди ночи и вьюги на голых и от века пустынных горах, но цитировать его не стал. Он оглядел Машук и Бештау и решил, что вторая сигарета так же не повредит ему, если курить вползатяжки. День сулился так и пробыть до вечера, каким зародился – сизо-розовым по окраске и пасхальным по незримому в нем торжеству. Идти в гору было легко, потому что приходилось то и дело останавливаться и затаиваться: в притропных кустах боярышника копошились и флейтисто свистели какие-то продолговатые черные птицы – обклевывали ягоды, и Сыромуков попробовал ягоды тоже и убедился, что это сладко. На площадке перед санаторием несколько курортников состязались в меткости забросов резиновых колец – их надо было метров с двадцати накинуть на деревянные штыри в квадратном щите, помеченном цифрами-очками. Когда Сыромуков вышел к площадке, кольца кидала пожилая коренастая женщина в белой курортной фуражке и синем тренинге, и то, как она наторело, сноровисто сажала и сажала кольца на один и тот же кляп, как в момент броска по-девчоночьи тоненько вскрикивала, взбрыкивая короткой толстой ногой и крутым вздорным задом, возмутило Сыромукова. Он тут же подумал, что своей надменной походкой и беретом сам он так же, наверно, способен вызвать протестующее чувство в другом, но это не погасило в нем странного и неосуществимого желания: подойти и шлепнуть ладонью по курдюку разрезвившейся старухи, чтобы не дурила!
В гардеробной не оказалось ключа от палаты, а это могло означать, что появился сожитель. Сыромуков заклинающе попросил судьбу, чтобы она послала кого угодно, только не инвалида с протезом ноги, – тогда все двадцать пять суток превратятся тут в пытку виноватого сопереживания чужой давней боли и чужой физической неполноценности: ведь кровати стоят почти смежно, и каждую ночь протез тоже будет стоять рядом.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.