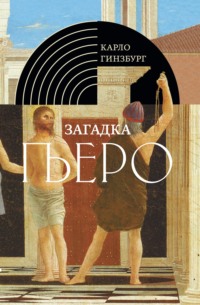Buch lesen: "Загадка Пьеро. Пьеро делла Франческа"
Габриэле
От переводчика
Книга известного итальянского историка Карло Гинзбурга о художнике Пьеро делла Франческа выходит в русском переводе под названием «Загадка Пьеро». Однако оригинальное название монографии иное – «Indagini su Piero», «Исследования о Пьеро». Почему заглавие оказалось изменено? Дело в том, что у итальянского слова «indagine» (в единственном числе) есть два значения, каждое из которых существенно для понимания методологической стратегии Гинзбурга. С одной стороны, речь идет о научном «исследовании», с другой – о детективном, криминальном «расследовании». При предпочтении одного из терминов значение второго передать бы не удалось. Именно поэтому мы сочли возможным воспользоваться переводом названия из англоязычного издания книги – «The Enigma of Piero», «загадка» или «тайна» Пьеро.
Научное исследование, написанное и выстроенное как детективное расследование, – именно в этом состоит программа Гинзбурга. «Cудья и историк» – так, кстати, называлась одна из его книг (1991), в которой ученый подробно анализировал материалы современного ему политического процесса – над его другом Адриано Софри, обвиненным в террористической деятельности. В «Загадке Пьеро» Гинзбург интерпретирует творения художника XV века, однако методы исследования/расследования не меняются. По сути, перед нами настоящее детективное дело. Конечно, никакого преступления совершено не было, хотя остальные ингредиенты жанра налицо – необходимость установить личность заказчика, реконструировать его биографию и связи с художником, расплести плотную сеть улик и «зацепок», благодаря которым мы сможем понять, что именно происходит на таинственных полотнах Пьеро делла Франческа, иными словами, разрешить «Загадку Пьеро».
Особенность того издания, с которого сделан настоящий перевод, – присутствие в книге четырех приложений, дополняющих текст 1981 года. Два из них посвящены анализу важной проблемы доказательств в научных трудах великого итальянского искусствоведа Роберто Лонги (1890–1970), еще одно – существенному вопросу о датировке цикла в Ареццо, созданного Пьеро в середине XV века. Однако, на наш взгляд, наиболее интересно последнее приложение (в книге оно идет под порядковым номером два). Здесь Гинзбург разоблачает сам себя – отыскивает ошибку в собственных рассуждениях и делает вывод о том, какая часть его концепции устояла, а какая требует пересмотра. Отличительной чертой научной поэтики Гинзбурга служит внимание не только к результатам, но и к ходу исследования. В этом смысле «Загадка Пьеро» – это увлекательный рассказ о том, как работает историк.
Труд Гинзбурга актуален по меньшей мере для двух научных контекстов. Начать с того, что именно этой монографией в 1981 году открылась книжная серия издательства «Эйнауди» «Microstorie» («Микроистории»), в редакционную коллегию которой входили такие известные итальянские историки, как сам Гинзбург, Джованни Леви и Симона Черутти. Серия выходила в 1980‐е годы (в итоге оказалось издано 21 исследование) – именно здесь на самом разном материале проходил испытание новый «микроисторический» метод1. В интервью российскому журналу «Сноб» (от 16 июля 2015 года) Гинзбург отметил, что приставка «микро» появилась «по аналогии с микроскопом», а задача метода – «помочь нам делать более качественные обобщения через изучение конкретных кейсов». Согласно Гинзбургу, понять масштабные процессы, в которые вовлечены человек и общество, можно лишь в том случае, если мы обратим внимание на индивидуальные явления, на исключения из правил, на то, как глобальные феномены преломляются в жизни отдельного человека.
Ключевым элементом при анализе картин Пьеро – «Крещения», цикла фресок в Ареццо и, главное, знаменитого «Бичевания Христа» – оказывается фигура заказчика, аретинского дворянина Джованни Баччи. Гинзбург демонстрирует, как Пьеро делла Франческа благодаря своим контактам с Баччи оказывается связан с самыми разными и куда более известными людьми эпохи Возрождения – ученым богословом и церковным деятелем Виссарионом Никейским, могущественным кондотьером Федериго да Монтефельтро и кругом известных тосканских гуманистов (Поджо Браччолини, Леон Баттиста Альберти и Леонардо Бруни). Более того, Пьеро косвенным образом участвует в общеевропейской политике своего времени, будучи невольно вовлечен в проекты по организации крестового похода против турок-османов. К такому выводу Гинзбург приходит лишь после тщательного изучения микроконтекста, связанного с обстоятельствами жизни Пьеро.
Читатель «Загадки Пьеро» непременно заметит, сколь важное значение автор книги придает научному доказательству. Как мы уже сказали, одной из характеристик «микроисторического» подхода Гинзбурга стало повышенное внимание не только к тому, что утверждают историки, но и к тому, как они приходят к тем или иным выводам. Гинзбург показывает, сколь осторожно следует относиться к уликам, следам, оставленным людьми прошлого. Его интересует, каковы критерии «научности», как отделить корректные выводы от ошибочных, «качественную» науку от «некачественной». Книга не в меньшей степени посвящена тому, как вообще можно анализировать произведения искусства – только ли на основании стиля или же привлекая внешнюю документацию, исторический контекст, сведения о биографии художника и заказчика его картин.
К этой проблематике восходит второй большой научный сюжет, связанный с «Загадкой Пьеро»: история о «вторжении» (по его собственному выражению) профессионального историка Гинзбурга в область искусствоведения. Строго говоря, к 1981 году Гинзбург отнюдь не был чужд этой научной дисциплине: начиная с 1960‐х годов он интересовался и писал о методологии истории искусства, был частым гостем знаменитого Института Варбурга в Лондоне и дружил с выдающимся британским историком искусства Майклом Баксендоллом, чья книга «Живопись и социальный опыт в Италии XV века» (1972) оказала на него значительное влияние.
И тем не менее «вторжение», несмотря на примирительные заявления о необходимости сотрудничества «традиционных» историков и историков искусства. Сила аргументации Гинзбурга базировалась на контрасте между его подходом и методами представителей соседней дисциплины. Гинзбург не только выдвигал гипотезы о датировках и сюжете фресок Пьеро, но и буквально отделял «агнцев от козлищ» – со свойственной ему решительностью и резкостью развенчивал распространенные в искусствоведении представления о живописи Пьеро. Так, книга полна констатаций о «безосновательных» и «ошибочных» гипотезах других исследователей.
Надо сказать, что искусствоведы платили Гинзбургу той же монетой. Историка обвиняли в том, что он истолковывал художественное богатство живописных полотен Пьеро с помощью «мелочных» и вообще не столь значимых деталей (подобных обстоятельствам заказа), или же в том, что он поддался искушению и в поисках легкого успеха написал детектив, более близкий к литературному тексту, чем к научному исследованию. Однако наиболее чувствительной для Гинзбурга оказалась критика искусствоведа Антонио Пинелли, одного из немногих, кому Гинзбург решил публично отвечать – полемика велась на страницах журнала «Quaderni storici», с которым сотрудничали все главные представители микроистории.
Защищая стилистический подход к датировке произведения искусства, Пинелли возвращал Гинзбургу его же упреки. Он считал, что историк зачастую выдает желаемое за действительное, гипотетическое за доказанное. Именно так обстоит дело с присутствием на «Бичевании» кардинала Виссариона: аргументов «за» в этом случае куда меньше, чем аргументов «против». И все же Гинзбург настаивает на своей гипотезе, вводя все новые и новые толкования, как бы не желая замечать очевидного. В итоге, как видно из приложений к книге, она породила обширную дискуссию и, можно сказать, спровоцировала настоящий скандал. Таким образом, «Загадка Пьеро» – это свидетельство о настоящих баталиях в науке.
Перевод выполнен по изданию: Ginzburg C. Indagini su Piero. Il Battesimo. Il ciclo d’Arezzo. La flagellazione di Urbino. Torino: Einaudi, 2001 (1994). За помощь при подготовке перевода я от души благодарю Ирину Гачечиладзе, Галину Ельшевскую, Франческу Ладзарин, Анну Сабашникову, переводом латинских цитат я обязан Наталии Самохваловой. Разумеется, все ошибки и погрешности остаются на моей совести.
Михаил Велижев, профессор школы филологии НИУ ВШЭ
Предисловие (1981)
1
На страницах этой книги я анализирую некоторые из самых известных творений Пьеро делла Франческа – «Крещение Христа», «Бичевание», цикл фресок в Ареццо, – исходя из двойной оптики – заказчика и иконографии. Я не говорю о чисто формальных аспектах этих изображений, поскольку моей компетенции для этого недостаточно (я – историк, а не искусствовед). Это существенное ограничение. Может ли столь узкое исследование привести к значимым результатам? Думаю, да – как по особенным причинам, связанным с состоянием исследований о Пьеро, так и по соображениям более общего характера.
2
Достоверные сведения о биографии Пьеро, по сути, скудны; датированные творения крайне немногочисленны2. В этой ситуации у исследователя создается впечатление, будто он находится перед отвесной скалой, столь гладкой, что ему не за что ухватиться. У нас есть лишь зацепки, расставленные то тут, то там: присутствие Пьеро во Флоренции в 1439 году в числе помощников Доменико Венециано; заказ написать Мадонну делла Мизерикордия в Сансеполькро в 1445 году; фреска в Римини, изображающая Сиджизмондо Малатеста и датированная 1451 годом; деятельность в Риме в 1458–1459 годах, документированная платежными ведомостями Апостольской палаты… В остальном – предположения, ненадежные или косвенные известия, в лучшем случае датировки post quem и ante quem, оставляющие пробелы длиной в десятилетия.
Роберто Лонги в великой книге о Пьеро 1927 года (которую он дополнял и исправлял в течение тридцати пяти лет3) показал, что углубленный анализ художественных текстов позволяет обойти проблему нехватки внешних свидетельств. Мы и сегодня должны считаться с этой фундаментальной реконструкцией творческой биографии Пьеро. Однако по прошествии почти полувека с момента ее появления эта реконструкция неизбежно начинает вызывать некоторые сомнения.
Рассмотрим одно из сомнений: датировку «Бичевания» из Урбино4. По мнению Лонги, знаменитая картина появилась на свет около 1445 года. Столь ранняя датировка обусловлена тем, как на рубеже XVIII и XIX веков интерпретировали и уточняли сюжет картины – или, точнее, происходящее на ее переднем плане, – в самом Урбино или в трудах историков города. Согласно этой версии, в образе босого белокурого юноши изображался убитый в результате заговора 1444 года Оддантонио да Монтефельтро, окруженный коварными советниками. Таким образом, «Бичевание» Пьеро оказывалось знаком уважения к памяти герцога, недавно и трагически ушедшего из жизни.
Даже если ошибочная идентификация белокурого юноши с Оддантонио датируется концом XVI века (так или иначе, но это случилось более чем через столетие после создания картины), такая трактовка в целом, конечно же, лишена всякого основания. Когда она еще не была оспорена, Лонги принял ее как «наиболее вероятную», рассудив, что вытекающая из нее датировка подтверждается формальными данными: «К тому же, стиль также возвращает нас ко времени, предшествовавшему созданию аретинских фресок…»5 На законнейшие (хотя и недостаточно аргументированные) возражения Тоэска, отвергнувшего интерпретацию иконографии и связанную с ней раннюю датировку, Лонги ответил в 1942 году. Он вновь подтвердил свою приверженность тезису, считавшемуся тогда каноническим: «и поскольку произведение предназначалось для Урбино, то правдоподобным следует счесть и урбинское происхождение загадочного сюжета, относящегося ко времени Пьеро [имеются в виду фигуры на первом плане]; посему вероятной вновь становится местная интерпретация сюжета. Она хорошо сочетается со стилем изображения, напоминающим ранние творения Пьеро. Это явное предзнаменование, а не результат влияния аретинских фресок».
Очевидно, что Лонги никогда бы не подумал безоговорочно принять атрибуцию, возникшую в местной традиции через сто или даже триста лет после создания картины. Однако в том, что касалось иконографии, он был куда менее требователен. Взгляд ученого знатока в случае с «Бичеванием» замутнился при виде ложного свидетельства внестилистического характера. В итоге история творческого пути Пьеро в одном из своих главных пунктов оказалась искажена. Впрочем, не окончательно. Вернувшись к этому вопросу в 1962 году, Лонги объявил, что «склонен перенести ее [датировку] на несколько лет вперед». В этот момент гипотеза о поминовении Оддантонио развалилась, а иконографическая проблема фактически оказалась реанимирована. В любом случае Лонги продолжал считать, что картина создана «в период, предшествовавший работе над фресками в Ареццо»6.
К датировке цикла в Ареццо и того же «Бичевания» я вернусь позже. Здесь же ограничусь несколькими общими замечаниями о проблемах, возникших по итогам рассуждений Лонги и в результате перемены в его взглядах.
Хорошо известно, что Лонги считал датировку решающим моментом в анализе всякого произведения. Однако его сверхъестественные знания могли бы подтолкнуть нас к ложному выводу о том, что датировки вроде «Кремона, 1570 год»7 всегда и единственно отсылают к рассуждениям о стиле. В действительности они основывались на параллельном отслеживании многочисленных документальных цепочек: стиля, биографии, возможно истории рам, реже иконографии и т. д. Сейчас очевидно, что любое предположение о датировке подразумевает сочетание как стилистических, так и внестилистических факторов; однако это сочетание, это «согласие» (если пользоваться формулой самого Лонги) есть финальная, а не отправная точка поиска. Какая цепочка данных внутри конкретной исследовательской стратегии имеет большее значение и, следовательно, диктует условия «согласия»? Ответ, безусловно, варьируется от случая к случаю. В нашем примере он несомненен: речь идет о внестилистической цепочке, точнее данных иконографии. Примечательно, что до появления новой датировки в 1962 году Лонги всегда начинал разговор о картине с определения ее иконографических черт. Иконография, в том случае, если мы связываем ее с поминовением Оддантонио, снабжала нас достаточно точными сведениями о дате – картина появилась в течение самое большее двух лет после событий 1444 года. (Если мы примем обсуждаемую здесь версию, то следует исключить возможность, что вероятный заказчик картины Федериго да Монтефельтро долго тянул с чествованием убитого брата.) Однако из аргументации Лонги неизбежно явствует, что стилистические данные давали ему куда менее точное хронологическое основание: «период, предшествовавший работе над фресками в Ареццо», «предзнаменование, а не результат влияния аретинских фресок». К границе ante quem, согласно Лонги соответствовавшей 1452 году, добавлялась подразумеваемая граница post quem: самые старые фрагменты Мадонны делла Мизерикордия в Сансеполькро были заказаны в 1445 году и, по-видимому, выполнены тогда же или вскоре после этого. Все это означает, что в случае «Бичевания» Лонги оказался перед выбором между датировкой, позволявшей ошибиться в рамках максимум двух или трех лет (и основанной на иконографии), и датировкой, ошибка в которой могла колебаться внутри семилетнего, то есть вдвое большего, временного зазора. Проблема ученого, стремящегося найти наименее условную датировку, состояла в том, чтобы понять, в какой мере первая версия совместима со второй – именно совместима, а не совпадает, ибо о совпадении, как мы видели, речи идти не могло. Замечание Лонги о том, что интерпретацию иконографии «Бичевания», связанную с Оддантонио, «можно считать верной… только если такой вывод позволяет сделать форма»8, способно заставить нас ошибочно предположить, будто две цепочки, иконографическая и стилистическая, в отношении датировки обладают равным весом. Напротив, очевидно, что в данном случае первенство принадлежало первой из них (когда же иконография в высшей степени стереотипна, может иметь место обратное). «Форма» обладала своеобразным правом вето, если иконографическая гипотеза была несовместима со стилистическими данными; при этом гипотеза о точной датировке могла возникнуть только под влиянием иконографии. Понадобились, как мы видели, тридцать пять лет, дабы вето, наложенное стилем, пало. Это побудило Лонги тихо отказаться от абсурдной иконографической интерпретации, связанной с именем Оддантонио, и от соответствующей датировки. Возможно, задержка неявно мотивировалась тем своеобразным весом, которым знаток (даже такой знаток, как Лонги) наделил точную датировку. Для этого он использовал иконографию, которая, казалось, отсылала к документированным сведениям о внешнем событии. В теории, осторожность Лонги оправдана (хотя в данном конкретном случае это и не так). Говоря это, не хочется, конечно, преуменьшать значительных успехов, достигнутых благодаря методам стилистической или культурной датировки, – в истории искусства, истории народов, лишенных письменности, истории народов, оставивших нам скудные или не поддающиеся расшифровке письменные свидетельства9. И тем не менее следует напомнить, что датировки, основанные исключительно на стилистических фактах, порождают утверждения вроде «x» прежде «y» и после «z», то есть связанные друг с другом хронологические цепочки. Превратить «прежде» и «после» в абсолютные временные величины – порой даже ad annum – возможно только связав стилистический анализ с элементами датировки по внешним событиям. Изящная небрежность, которой заканчивается статья Лонги об одном из ранних распятий Беноццо Гоццоли – «Я едва могу удержаться, чтобы не добавить: в Монтефалько в 1450 году»10, – предполагает дату, прямо названную и не предположительную, фресок Беноццо в Монтефалько. Если же, напротив, отсылка делается к произведениям, в свою очередь датированным по стилистическим данным, то риск оказаться в порочном круге и тем самым вновь пойти в ошибочном направлении, крайне высок. Возьмем, например, последнюю по времени перемену в воззрениях Лонги на дату «Бичевания». По умолчанию отвергнув ложное временное уточнение, основанное на неправильной иконографической интерпретации, Лонги уже просто ограничился заявлением, что картина предшествовала началу работы над фресками в Ареццо. Однако в каком именно году Пьеро приступил к созданию фресок? Самый осторожный ответ на этот вопрос таков: после 1452 года, когда умер Биччи ди Лоренцо, который начал украшать хоры церкви Сан Франческо (впрочем, есть и те, кто считает, что Пьеро мог заменить уже больного Биччи несколькими годами ранее). Конечно, Лонги перевел границу post quem в абсолютные величины, исходя из стилистической преемственности между самыми ранними фрагментами аретинского цикла и фреской в Римини, датированной 1451 годом (вот основная зацепка) и изображавшей Сиджизмондо Малатеста11. Однако переход к точной датировке очевидным образом произволен, поскольку мы не знаем, с какой скоростью менялся в эти годы стиль Пьеро. Вернувшись к дате «Бичевания», мы увидим, что граница ante quem «до создания цикла в Ареццо» в свою очередь отсылает к границе post quem (после 1452 года). Далее я попытаюсь показать, что эту саму по себе уязвимую датировку следует скорректировать как в плане относительной хронологии, так и в плане хронологии абсолютной, или календарной.
3
Все это доказывает, сколь тяжело даже такому уникальному знатоку, как Лонги, датировать произведение лишь на стилистических основаниях при полном или частичном отсутствии документированных внешних данных. Эта проблема касается почти всей деятельности Пьеро (и делает его случай очень важным с методологической точки зрения, даже независимо от высокой художественной ценности его работ). Гипотезы о датировке «Бичевания» расходятся в диапазоне тридцати лет (!); некоторые исследователи считали «Крещение» зрелым, а не ранним произведением и т. п.12 Во многих случаях речь идет об абсурдных датировках, которые тем не менее предъявлялись – и, подчеркиваем, не были отвергнуты определенным числом представителей научной дисциплины. При этом тот, кто отрицал бы факт активности Пьеро в Римини в 1451 году или в Риме в 1458–1459 годах – засвидетельствованный датированной фреской и регистрами Апостольской палаты, – исключал себя из научной дискуссии. Если, конечно, он не докажет, что дата фальсифицирована или регистр неточен, что в теории, разумеется, возможно. Однако тогда бремя обоснования ложится на того, кто намерен защищать тезис о фальсификации или неточности.
В действительности веревка, свитая из стилистического прочтения, с той или иной степенью убедительности всегда цепляется за выступы из имеющихся документов. (Из чего, на мой взгляд, следует: нам по умолчанию надо признать, что для определения точной датировки стилистические данные менее надежны.) В случае с Пьеро необходимо увеличить число зацепок, то есть, уже не пользуясь метафорами, обогатить скудное досье, составленное из внешних документов, в первую очередь касающихся заказчиков.
4
Документальное расследование о заказчиках Пьеро фактически застопорилось в первые десятилетия XX века – в сущности, уже на статье Дж. Дзиппеля, в которой наглядно описывалась деятельность Пьеро в Риме на службе у Пия II13. Разыскания, подобные работе М. Сальми о заказчиках цикла в Ареццо, вышедшей несколькими годами прежде, так и не были продолжены – даже теми, кто, подобно К. Гилберту, имел, как мы убедимся, такую возможность14. Свод биографических данных, составляющий, возможно, самую полезную часть обширной монографии Э. Баттисти, предоставляет новые сведения о времени пребывания Пьеро в Борго Сансеполькро, но ничего не говорит о датировке произведений (за исключением упоминания о Мадонне делла Мизерикордия, которая датируется более ранним временем15).
Вместо того чтобы реконструировать историю заказов Пьеро на основе архивных и опубликованных документов, ученые часто предпочитали анализировать ее с помощью самих произведений, точнее через их иконографию. В последние годы иконографические или (если использовать вошедший в оборот термин) иконологические16 исследования о Пьеро делла Франческа стали особенно многочисленны: некоторые из них прекрасны, другие, честно говоря, куда менее убедительны или прямо-таки слабы. Это и неизбежно – хотя сторонний наблюдатель не может в ряде случаев не прийти в замешательство от нехватки даже минимально строгих условий анализа в данной дисциплине. Беспорядочная череда голословных иконологических гипотез, сменяющих и порой опровергающих друг друга на страницах монографии Баттисти, заставляет предположить, что трудности, связанные с проверкой, делают в этой сфере законной любую догадку17.
В чем здесь проблема, мы скажем сразу. Нередко сложные аллюзии, усмотренные специалистами по иконологии в творениях Пьеро, постулируют существование особых программ, предложенных художнику самим заказчиком или его посредником. Однако следов этих программ не осталось, так как, возможно, они передавались не письменно, а устно. До сих пор ничего необычного: действительно, до нас дошли лишь немногие детальные иконографические описания, созданные до середины XVI века. Впрочем, риск появления замкнутых интерпретативных цепочек, целиком основанных на предположениях, очень велик. Элементы цепочки поочередно отсылают друг к другу, а вся последовательность парит в безвоздушном пространстве (аналогия с рисками при датировке, базирующейся исключительно на стиле, здесь очевидна). Как это происходит со многими исследованиями по иконологии, в итоге творение порождает целый ряд вольных ассоциаций, как правило основанных на гипотетической трактовке символов.
При проведении других изысканий – например, посвященных преимущественно устной сельской культуре доиндустриальных обществ – ученые сталкиваются с теми же проблемами18. Выход из ситуации состоит не в отказе, более или менее молчаливом, от требования документального обоснования, но в поиске адекватных инструментов проверки. Тем самым я не предлагаю (это должно быть ясно) свести работу интерпретатора к идентификации явных смыслов, сообщенных творению художником или заказчиком. Однако без такого предварительного опознания исследователь рискует выдать собственные измышления за сведения, действительно обогащающие или углубляющие произведения Пьеро (или, предположим, Тициана). Случаев столь нелепой претензии сегодня хватает19. Поэтому весьма разумным кажется предложение Гомбриха – начинать с анализа институтов или жанров, а не символов, дабы избежать грубых ошибок и не впасть в то, что мы могли бы назвать дикой иконологией20. Но есть еще один элемент проверки, позволяющий сузить гамму возможных интерпретаций: это исследование о заказчиках произведений искусства. Разумеется, если мы будем восстанавливать сведения о заказчиках исходя из иконологической трактовки самого произведения, то вновь окажемся в самом центре порочного круга. Остается вести работу одновременно в двух направлениях – искать заказчиков и анализировать иконографию, соединяя данные обеих цепочек. Именно это я и постарался сделать на страницах книги.
5
Стремясь показать ограниченность чисто стилистического прочтения живописи Пьеро (и, кроме того, произведений искусства в целом), мы оттолкнулись от проблемы датировки. Это обстоятельство, вероятно, следует приписать профессиональному пороку историка, который, сталкиваясь с каким бы то ни было свидетельством (включая картины), прежде всего задает вопрос «когда?» (и сразу вслед за этим – «где?»). Впрочем, конечно же, датировка служит лишь первым шагом на пути к исторической интерпретации произведения искусства. Цепочки внестилистических данных об иконографии и заказчиках, которые мы предложили интерпретировать, дабы дополнить результаты стилистических разысканий, заставляют поставить вопрос (избитый, но как никогда насущный) о связи между произведением искусства и породившим его социальным контекстом.
Как правило, ученые предпочитали задавать указанный вопрос лишь в определенный момент и в каком-то смысле косвенным образом, то есть отталкиваясь от простейшего, но неустранимого требования (датировки), стоящего перед всяким, кто вступает с произведением искусства в отношения, не исчерпывающиеся чистым эстетизирующим наслаждением. Причина в следующем. Слишком часто связи между творением и контекстом устанавливались в нарочито грубом и упрощенном виде – например, усматривая, как это недавно было сделано, зависимость живописи Пьеро делла Франческа от «сельской и патриархальной Умбрии»21. На фоне столь выхолощенных вариаций метафоры «базис/надстройка» (неудачной самой по себе) исследователи, менее заинтересованные или вовсе идеологически враждебные социальной истории художественного выражения, очевидно, имеют большие шансы на успех.
Намного сложнее заранее отвести (и намного сложнее и труднее выстроить) аналитическую реконструкцию запутанной сети микроскопических отношений, которые присущи каждому, даже простейшему продукту творчества22. Совокупный анализ стилистических предпочтений, иконографических форм и отношений с заказчиком зачастую необходим, как мы видели, и в рамках такой предварительной историографической практики, как датировка. У социальной истории художественного творчества есть более амбициозная цель. Она может быть достигнута только при развитии очерченных перспектив, а не путем суммирования более или менее натянутых аналогий между цепочками художественных явлений и социально-экономических феноменов.
В этом направлении самым решительным образом шел Аби Варбург. Его работы23 свидетельствуют о широте взгляда и богатстве аналитических инструментов, лишь отчасти сводимых к технике расшифровки символов, с которой обычно ассоциируется «варбургианский метод». Кстати, надо заметить, что внимание к особому социальному и культурному контексту спасло Варбурга от крайностей в интерпретациях, в которые порой впадал даже такой великий ученый, как Панофский (не говоря уже о некоторых его последователях). Наиболее близкой исследованиям Варбурга по духу, как представляется, оказалась книга М. Баксендолла об итальянской живописи XV века, где стиль рассматривается в связи с конкретными социальными ситуациями и практиками, что дало поистине необыкновенные результаты24.
6
Время, когда историки верили, что должны работать исключительно с письменными свидетельствами, давно миновало. Уже Люсьен Февр предлагал анализировать сорняки, форму полей, фазы луны; почему же не поступить так же и с живописью, например, Пьеро делла Франческа? В конце концов, картины тоже являются документами по политической или религиозной истории. О междисциплинарных исследованиях речь, без сомнений, заходила слишком часто (в большинстве случаев о них говорили, но ими никто не занимался), хотя совершенно очевидно, что обычные историки и историки искусства имеют все основания работать вместе, благодаря чему они достигнут более глубокого понимания художественных свидетельств25. У того, кто помещает себя в отчетливо историческую перспективу, решение не касаться собственно стилистических материй не должно вызывать возражений.
Впрочем, методы и цели этого исследования представляются мне иными. Они куда более амбициозны. Я был вынужден считаться с ограниченностью своей подготовки, мешавшей мне в полной мере проанализировать живопись Пьеро. Я старался избежать ориентации как на одну, так и на несколько научных дисциплин. Мой подход скорее напоминает вторжение в другую область знания – конечно же, не враждебную, но точно чужеземную. Если бы я воспользовался творениями Пьеро как свидетельствами о религиозной жизни XV столетия или же ограничился реконструкцией круга его аретинских заказчиков, мне бы, скорее всего, удалось поддержать с корпорацией искусствоведов мирные отношения. Однако попытка очертить образ Пьеро иначе, чем это принято – вплоть до хронологии некоторых из самых известных его произведений – вероятно, прозвучит как провокация. Готов спорить, сразу же появится Апеллес, который предложит мне вернуться к сапожному ремеслу, более мне свойственному.
В целом я считаю, что число вторжений такого рода должно быть преумножено. Неудовлетворенность дисциплинарными границами, которые мы считаем искусственными, имеет тенденцию разрешаться во взаимном наложении (как уже говорилось, скорее чаемом, нежели реальном) результатов, полученных различными науками. Гораздо более полезными, чем такие встречи в верхах, оставляющие все в прежнем состоянии, были бы столкновения по конкретным проблемам – скажем, по вопросу о датировке и интерпретации отдельных произведений, о чем речь идет ниже. Только так мы сможем вновь по-настоящему вернуться к обсуждению инструментов, пространства и языков отдельных дисциплин. Начиная, само собой, с исторического исследования.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.