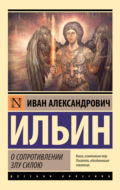Buch lesen: "О сопротивлении злу силою"
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Серия «Эксклюзивная классика: Русская классика»
Серийное оформление А. Фереза, Е. Ферез
* * *
И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул.
(Ин. 2, 15)
Грозные и судьбоносные события, постигшие нашу чудесную и несчастную родину, проносятся опаляющим и очистительным огнем в наших душах. В этом огне горят все ложные основы, заблуждения и предрассудки, на которых строилась идеология прежней русской интеллигенции. На этих основах нельзя было строить Россию; эти заблуждения и предрассудки вели ее к разложению и гибели. В этом огне обновляется наше религиозное и государственное служение, отверзаются наши духовные зеницы, закаляется наша любовь и воля. И первое, что возродится в нас через это, – будет религиозная и государственная мудрость восточного Православия, и особенно русского Православия. Как обновившаяся икона являет царственные лики древнего письма, утраченные и забытые нами, но незримо присутствовавшие и не покидавшие нас, так в нашем новом ви́дении и волении да проглянет древняя мудрость и сила, которая вела наших предков и строила нашу святую Русь!
В поисках этого ви́дения мыслью и любовью обращаюсь к вам, белые воины, носители православного меча, добровольцы русского государственного тягла! В вас живет православная рыцарская традиция; вы жизнью и смертью утвердились в древнем и правом духе служения; вы соблюли знамена русского Христолюбивого Воинства. Вам посвящаю эти страницы и вашим Вождям. Да будет ваш меч молитвою и молитва ваша да будет мечом!
Ко всем друзьям и единомышленникам, которые помогли мне в этой работе, и особенно к издателю этой книги я навсегда сохраню в душе благодарное чувство.
Автор
Введение
В страданиях мудреет человечество. Невидение ведет его к испытаниям и мукам; в мучениях душа очищается и прозревает; прозревшему взору дается источник мудрости – очевидность.
Но первое условие умудрения – это честность с самим собою и с предметом перед лицом Божиим.
Может ли человек, стремящийся к нравственному совершенству, сопротивляться злу силою и мечом? Может ли человек, верующий в Бога, приемлющий Его мироздание и свое место в мире, не сопротивляться злу мечом и силою? Вот двуединый вопрос, требующий ныне новой постановки и нового разрешения. Ныне особенно, впервые, как никогда раньше, ибо беспочвенно и бесплодно решать вопрос о зле, не имея в опыте подлинного зла; а нашему поколению опыт зла дан с особенной силою. В итоге долго назревавшего процесса злу удалось ныне освободить себя от всяких внутренних раздвоенностей и внешних препон, открыть свое лицо, расправить свои крылья, выговорить свои цели, собрать свои силы, осознать свои пути и средства; мало того, оно открыто узаконило себя, сформулировало свои догматы и каноны, восхвалило свою, не скрытую более природу и явило миру свое духовное естество. Ничего равносильного и равно порочного этому человеческая история еще не видала или, во всяком случае, не помнит. Столь подлинное зло впервые дано человеческому духу с такою откровенностью. И понятно, что при свете этой новой данности многие проблемы духовной культуры и философии, особенно те, которые имеют непосредственное отношение к идеям добра и зла, наполняются новым содержанием, получают новое значение, по-новому освещаются и требуют предметного пересмотра. И прежде всего – с виду морально-практический, а по существу глубокий религиозно-метафизический вопрос о сопротивлении злу, о верных, необходимых и достойных путях этого сопротивления.
Этот вопрос надо поставить и разрешить философически, как вопрос, требующий зрелого духовного опыта, продуманной постановки и беспристрастного решения. Для этого необходимо прежде всего отрешиться от преждевременных и торопливых выводов применительно к своей личности, к ее прошлым действиям и будущим путям. Исследователь не должен предварять своего исследования отпугивающими возможностями или перспективами; он не должен торопиться судить свое прошлое или позволять чужому осуждению проникать в глубину сердца. Каково бы ни было последнее решение вопроса, оно не может быть практически единым или одинаковым для всех: наивность всеуравнивающей, отвлеченной морали давно уже осознана в философии, и требовать, чтобы «все всегда» сопротивлялись злу силою или чтобы «никто никогда» не сопротивлялся силою злу, – бессмысленно. Только неиспуганный, свободный дух может подойти к проблеме честно, искренно, зорко; все додумать и договорить, не прячась трусливо и не упрощая, не заговаривая себя словами аффектированной добродетели и не увлекая себя ожесточенными жестами. Весь вопрос глубок, утончен и сложен; всякое упрощение здесь вредно и чревато ложными выводами и теориями; всякая неясность опасна и теоретически, и практически; всякое малодушие искажает формулу вопроса; всякое пристрастие искажает формулу ответа.
Но именно поэтому необходимо раз навсегда отрешиться от той постановки вопроса, которую с такой слепой настойчивостью вдвигали и постепенно вдвинули в философски неискушенные души граф Л. Н. Толстой, его сподвижники и ученики. Отправляясь от чисто личного, предметно не углубленного и непроверенного опыта «любви» и «зла», предрешая этим и глубину, и ширину самого вопроса, урезывая свободу своего нравственного ви́дения чисто личными отвращениями и предпочтениями, не подвергая внимательному анализу ни одного из обсуждаемых духовных содержаний (например: «насилие», «зло», «религиозность»), умалчивая о первоосновах и торопясь с категорическим ответом, эта группа морализирующих публицистов неверно поставила вопрос и неверно разрешила его; и затем со страстностью, нередко доходившею до озлобления, отстаивала свое неверное решение неверного вопроса как Богооткровенную истину. И так как материал истории, биологии, психологии, этики, политики и всей духовной культуры не укладывался в рассудочные схемы и формулы, а схемы и формулы претендовали на всеобщее значение и не мирились с исключениями, то естественно начался отбор «подходящего» материала и отвержение «неподходящего», причем недостаток первого восполнялся художественно «убедительными» построениями. Проповедовался наивно-идиллический взгляд на человеческое существо, а черные бездны истории и души обходились и замалчивались. Производилось неверное межевание добра и зла: герои относились к злодеям; натуры безвольные, робкие, ипохондрические, патриотически мертвенные, противогражданственные – превозносились как добродетельные. Искренние наивности чередовались с нарочитыми парадоксами, возражения отводились как софизмы; несогласные и непокорные объявлялись людьми порочными, подкупными, своекорыстными, лицемерами. Вся сила личного дара вождя и вся фанатическая ограниченность его последователей обращалась на то, чтобы духовно навязать другим собственную ошибку и распространить в душах собственное заблуждение. И естественно, что учение, узаконивающее слабость, возвеличивающее эгоцентризм, потакающее безволию, снимающее с души общественные и гражданские обязанности и, что гораздо больше, трагическое бремя мироздания, должно было иметь успех среди людей особенно неумных, безвольных, малообразованных и склонных к упрощающему, наивно-идиллическому миросозерцанию. Так случилось, что учение графа Л. Н. Толстого и его последователей привлекало к себе слабых и простодушных людей и, придавая себе ложную видимость согласия с духом Христова учения, отравляло русскую религиозную и политическую культуру.
Русская философия должна вскрыть все это незаметно внедрившееся в души гнездо опытных и идейных ошибок и постараться раз навсегда удалить отсюда все неясности и наивности, всякое малодушие и пристрастие. В этом ее религиозное, научное и патриотическое призвание: помочь слабым увидеть и окрепнуть, а сильным удостовериться и умудриться.
О самопредании злу
В самом преддверии проблемы необходимо установить с очевидностью, что о несопротивлении злу в буквальном смысле этого слова никто из честных людей и не думает; что одна склонность к такому несопротивлению превращает человека из нравственного врача и духовного субъекта – в нравственного пациента и в объект духовного воспитания. А это значит, что не он будет обсуждать проблему непротивления, а уже про него будет идти спор, что именно с ним делать и как именно следует противиться ему или чему-то, что есть в нем.
В самом деле, что означало бы «непротивление» в смысле отсутствия всякого сопротивления? Это означало бы приятие зла: допущение его в себя и предоставление ему свободы, объема и власти. Если бы при таких условиях восстание зла произошло, а несопротивление продолжалось, то это означало бы подчинение ему, самопредание ему, участие в нем и, наконец, превращение себя в его орудие, в его орган, в его рассадник, наслаждение им и поглощение им. Это было бы, в начале, добровольное саморастление и самозаражение; это было бы, в конце, активное распространение заразы среди других людей и вовлечение их в сопогибель. Но тот, кто совсем не сопротивляется злу, тот воздерживается и от порицания его; ибо порицание, хотя бы вполне внутреннее и молчаливое (если бы таковое было возможно!), есть уже внутреннее сопротивление, чреватое практическими выводами и напряжениями, борьбой и сопротивлением. Мало того, пока живо в душе неодобрение или хотя бы смутное отвращение, до тех пор человек еще сопротивляется: он, может быть, восстает нецельно, но он все-таки раздвоен, он борется внутри себя и вследствие этого само приятие зла не удается ему; даже совсем пассивный вовне, он сопротивляется злу внутренно: осуждает его, возмущается, разоблачает его перед самим собою, не поддается его страхам и соблазнам; и даже поддаваясь отчасти, корит себя за это, собирается с духом, негодует на себя, отвращается от него и очищается в покаянии; даже захлебываясь, сопротивляется и не тонет. Но именно поэтому полное отсутствие всякого сопротивления – и внешнего, и внутреннего, требует, чтобы прекратилось осуждение, чтобы стихло порицание, чтобы возобладало одобрение зла. Поэтому несопротивляющийся злу рано или поздно приходит к необходимости уверить себя, что зло – не совсем плохо и не так уж безусловно есть зло; что в нем есть некоторые положительные черты, что их притом немало, что они, может быть, даже преобладают. И лишь по мере того, как ему удается уговорить себя, заговорить свое здоровое отвращение и уверить себя в белизне черноты, угасают остатки сопротивления и осуществляется самопредание. И когда отвращение стихает и зло уже не переживается как зло, тогда приятие незаметно становится цельным: душа начинает верить, что черное – бело, приспособляется и уподобляется, становится сама черною, и вот уже одобряет и наслаждается и, естественно, восхваляет то, что дает ей наслаждение.
Таков духовный закон: несопротивляющийся злу поглощается им и становится одержимым. Ибо «зло» – не пустое слово, не отвлеченное понятие, не логическая возможность и не «результат субъективной оценки». Зло есть, прежде всего, душевная склонность человека, присущая каждому из нас; как бы некоторое, живущее в нас страстное тяготение к разнузданию зверя, тяготение, всегда стремящееся к расширению своей власти и к полноте захвата. Встречая отказы и запреты, наталкиваясь на стойкие пресечения, поддерживающие духовные и моральные грани личного и общественного бытия, оно стремится просочиться сквозь эти препоны, усыпить бдительность совести и правосознания, ослабить силу стыда и отвращения, принять приемлемое обличие и если возможно, то расшатать и разложить эти живые грани, эти зиждущие формы личного духа, как бы опрокинуть и рассыпать волевые стены индивидуального кремля. Духовное воспитание человека состоит в построении этих стен и, что еще важнее, в сообщении человеку потребности и умения самостоятельно строить, поддерживать и отстаивать эти стены. Чувство стыда, чувство долга, живые порывы совести и правосознания, потребность в красоте и в духовном сорадовании живущему, любовь к Богу и родине – все эти истоки живой духовности в единой и совместной работе создают в человеке те духовные необходимости и невозможности, которым сознание придает форму убеждений, а бессознательное – форму благородного характера. И вот, эти духовные необходимости поступать «так-то» и невозможности поступить «иначе» сообщают единство и определенность личному бытию; они слагают некий духовный уклад, как бы живой костяк личного духа, поддерживающий его строение, его оформленное бытие, сообщающий ему его мощь и державу. Размягчение этого духовного костяка, распадение этого духовного уклада означало бы духовный конец личности, превращение ее в жертву дурных страстей и внешних воздействий, возвращение ее в то хаотически-разреженное состояние, где духовных необходимостей нет, а душевные возможности неисчислимы.
Понятно, что чем бесхарактернее и беспринципнее человек, тем ближе он к этому состоянию и тем естественнее для него совсем не сопротивляться злу. И обратно, чем менее человек сопротивляется злу, тем более он приближается к этому состоянию, попирая сам свои «убеждения» и расшатывая сам свой «характер». Несопротивляющийся сам разламывает стены своего духовного кремля; сам принимает тот яд, от действия которого размягчаются кости в организме1. И естественно, что от несопротивления злу злая страсть расширяет свое господство до полноты: куски страсти, уже облагороженные, совлекают с себя ризы своего благородства и вливаются в общий мятеж; они уже не держат грань и предел, но сами предаются бывшему врагу и вскипают злом. Злая одержимость становится цельною и влечет душу на своих путях, по своим законам. Одержимый злой страстью, несопротивляющийся буйствует потому, что сам отверг все удерживающее, направляющее и оформляющее: вся сопротивлявшаяся сила стала силою самого буреносящего зла, и дыхание гибели питается ожесточением самого погибающего. Вот почему конец его неистовства есть конец его душевно-телесного бытия: безумие или смерть.
Такое разложение духовности в душе может наступить у слабого человека в зрелом возрасте; но оно может вести свое начало от детства, и притом или так, что первоначальное зерно духовности, потенциально имеющееся у каждого человека, совсем не было вызвано к живой самодеятельности, или же оно оказалось, в результате внутренней слабости и внешних соблазнов, творчески нежизнеспособным и бесплодным. Во всех случаях слагается картина внутреннего недуга, имеющая чрезвычайное психопатологическое значение и интерес. Человек, духовно дефективный с детства, может выработать в себе даже особый душевный уклад, который при поверхностном наблюдении может быть принят за «характер», и особые воззрения, которые по ошибке принимаются за «убеждения». На самом же деле он, беспринципный и бесхарактерный, остается всегда рабом своих дурных страстей, пленником выработавшихся душевных механизмов, одержащих его и всесильных в его жизни, лишенных духовного измерения и слагающих кривую его отвратительного поведения. Он не сопротивляется им, но изворотливо наслаждается их игрой, заставляя наивных людей принимать его злую одержимость за «волю», его инстинктивную хитрость – за «ум», порывы его злых страстей – за «чувства». Влачась в противодуховных страстях, он выговаривает свою природу в соответствующей противодуховной «идеологии», в которой радикальное и всестороннее безбожие сливается воедино с немучительной для него самого душевной болезнью и законченным нравственным идиотизмом. Естественно, что духовно здоровые люди вызывают у такого человека лишь раздражение и злобу и разжигают в нем больное властолюбие, в проявлениях которого вспышки мании величия неизбежно чередуются со вспышками мании преследования. После духовных бед, разразившихся над миром в первую четверть двадцатого века, нетрудно представить себе, что может создать кадр таких, одержимых злобой, агрессивно изуверствующих людей.
В противоположность этому, всякая зрелая религия не только открывает природу «блага», но и научает борьбе со злом. Вся дохристианская восточная аскетика имеет два уклона: отрицательный – поборающий и положительный – возводящий. Это есть то самое «не во плоти воинствование» («стратейя»2), о котором разъясняет Коринфянам апостол Павел (см. 2 Кор. 10, 3–5). Однако нигде, кажется, это внутреннее сопротивление злу не разработано с такой глубиной и мудростью, как у аскетических учителей восточного православия. Объективируя начало зла в образ невещественных демонов3, Антоний Великий, Макарий Великий, Марк Подвижник, Ефрем Сирин, Иоанн Лествичник и другие учат неутомимой внутренней «брани» с «непримечаемыми» и «ненасилующими» «приражениями злых помыслов», а Иоанн Кассиан прямо указывает на то, что «никто не может быть прельщен диаволом, кроме того, кто «сам восхощет дать ему своей воли согласие» (курсив мой. – Авт.). Духовный опыт человечества свидетельствует о том, что несопротивляющийся злу не сопротивляется ему именно постольку, поскольку он сам уже зол, поскольку он внутренно принял его и стал им. И потому предложение, всплывающее иногда в периоды острого искушения, – «предаться злу, чтобы изжить его и обновиться им», – исходит всегда от тех слоев души или соответственно от тех людей, которые уже сдались и жаждут дальнейшего падения: это прикровенный голос самого зла.
Нет сомнения, что граф Л. Н. Толстой и примыкающие к нему моралисты совсем не призывают к такому полному несопротивлению, которое было бы равносильно добровольному нравственному саморазвращению.
И неправ был бы тот, кто попытался бы понять их в этом смысле. Напротив, их идея состоит именно в том, что борьба со злом необходима, но что ее целиком следует перенести во внутренний мир человека, и притом именно того человека, который сам в себе эту борьбу ведет; такой борец со злом может найти в их писаниях даже целый ряд полезных советов.
«Непротивление», о котором они пишут и говорят, не означает внутреннюю сдачу и присоединение ко злу; наоборот, оно есть особый вид сопротивления, т. е. неприятия, осуждения, отвержения и противодействия. Их «непротивление» означает противление и борьбу; однако лишь некоторыми, излюбленными средствами. Они приемлют цель – преодоление зла4, но делают своеобразный выбор в путях и средствах. Их учение есть учение не столько о зле, сколько о том, как именно не следует его преодолевать.
Само собою разумеется, что только такая борющаяся природа их «непротивления» дает основание философически обсуждать их утверждения. Однако такое обсуждение не может принять ни выдвинутую ими постановку вопроса, ни тем более даваемый ими ответ.
О добре и зле
Проблему сопротивления злу невозможно поставить правильно, не определив сначала «местонахождение» и сущность зла.
Так, прежде всего, зло, о сопротивлении которому здесь идет речь, есть зло не внешнее, а внутреннее. Как бы ни были велики и стихийны внешние, вещественные разрушения и уничтожения, они не составляют зла: ни астральные катастрофы, ни гибнущие от землетрясения и урагана города, ни высыхающие от засухи посевы, ни затопляемые поселения, ни горящие леса. Как бы ни страдал от них человек, какие бы печальные последствия они не влекли за собою, материальная природа как таковая, даже в самых с виду нецелесообразных проявлениях своих не становится от этого ни доброй, ни злой. Само применение идеи зла к этим явлениям осталось в наследство от той эпохи, когда всеодушевляющее человеческое воображение усматривало живого душевно-духовного деятеля за каждым явлением природы и приписывало всякий вред какому-нибудь зложелательному вредителю. Правда, стихийные естественные бедствия могут развязать зло в человеческих душах, ибо слабые люди с трудом выносят опасность гибели, быстро деморализуются и предаются самым постыдным влечениям; однако люди, сильные духом, отвечают на внешние бедствия обратным процессом – духовным очищением и укреплением в добре, о чем достаточно свидетельствуют хотя бы дошедшие до нас исторические описания великой европейской чумы. Понятно, что внешне-материальный процесс, пробуждающий в одних душах Божественные силы и развязывающий в других диавола, не является сам по себе ни добром, ни злом.
Зло начинается там, где начинается человек, и притом именно не человеческое тело во всех его состояниях и проявлениях как таковых, а человеческий душевно-духовный мир – это истинное местонахождение добра и зла. Никакое внешнее состояние человеческого тела само по себе, никакой внешний «поступок» человека сам по себе, т. е. взятый и обсуждаемый отдельно, отрешенно от скрытого за ним или породившего его душевно-духовного состояния, не может быть ни добрым, ни злым.
Так, телесное страдание может повести одного человека к беспредметной злобе и животному огрубению, а другого – к очищающей любви и духовной прозорливости; и понятно, что став для первого возбудителем зла, а для второго – пробудителем добра, оно само по себе не было и не стало ни злом, ни добром. Именно на этой двуликости телесных лишений и страданий настаивали мудрые стоики5, научая людей обезвреживать их яд и извлекать из них духовное целение.
Точно так же все телодвижения человека, слагающие внешнюю видимость его деяния, могут проистекать и из добрых, и из злых побуждений и сами по себе не бывают ни добрыми, ни злыми. Самое свирепое выражение лица может не таить за собою злых чувств; самая «обидная неучтивость» может проистекать из рассеянности, вызванной глубоким горем или научной сосредоточенностью; самое резкое телодвижение может оказаться непроизвольным рефлексом; самые «оскорбительные» слова могут оказаться произнесенными на сцене или в бреду; самый тяжелый удар мог быть нечаянным или предназначенным для спасения; самый ужасный разрез на теле может быть произведен по мотивам хирургическим или религиозно-очистительным. В жизни человека нет и не может быть ни «добра», ни «зла», которые имели бы чисто телесную природу. Самое применение этих идей к телу, телесному состоянию или телесному проявлению, вне их отношения к внутреннему миру, – нелепо и бессмысленно. Это, конечно, не значит, что внешнее, телесное выражение совсем безразлично перед лицом добра и зла или что человек может делать вовне все, что ему угодно. Нет. Но это значит, что внешнее подлежит нравственно-духовному рассмотрению лишь постольку, поскольку оно проявило или проявляет внутреннее, душевно-духовное состояние человека: его намерение, его решение, его чувствование, его помысел и т. д. Дело обстоит так, что «внутреннее», даже совсем не проявленное вовне или, по крайней мере, никем извне не воспринятое, уже есть добро или зло, или их трагическое смешение; «внешнее» же может быть только проявлением, обнаружением этого внутреннего добра, или зла, или их трагического смешения, но само не может быть ни добром, ни злом. Перед лицом добра и зла всякий поступок человека таков, каков он внутренно и изнутри, а не таков, каким он кому-нибудь показался внешне или извне. Только наивные люди могут думать, что улыбка всегда добра, что поклон всегда учтив, что уступчивость всегда доброжелательна, что толчок всегда оскорбителен, что удар всегда выражает вражду, а причинение страданий – ненависть. При нравственном и религиозном подходе «внешнее» оценивается исключительно как знак «внутреннего», т. е. устанавливается ценность не «внешнего», а «внутреннего, явленного во внешнем», и далее, внутреннего, породившего возможность такого внешнего проявления. Именно поэтому два с виду совершенно одинаковых внешних поступка могут оказаться имеющими совершенно различную, может быть, прямо противоположную нравственную и религиозную ценность: два пожертвования, две подписи под одним документом, два поступления в полк, две смерти в бою… Казалось бы, что христианское сознание не должно было бы нуждаться в таких, почти аксиоматических, разъяснениях…
Но если, таким образом, настоящее местонахождение добра и зла есть именно во внутреннем, душевно-духовном мире человека, то это означает, что борьба со злом и преодоление зла могут произойти и должны достигаться именно во внутренних усилиях, и преображение будет именно внутренним достижением. Какой бы «праведности» или, вернее, моральной верности ни достиг человек в своих внешних проявлениях и делах, все его достижение, несмотря на его общественную полезность, не будет иметь намерения добра без внутреннего, качественного перерождения души. Внешний обряд доброты не делает человека добрым: он остается нравственно мертвым фарисеем, повапленным гробом6. До тех пор пока самая глубина его личной страсти не вострепещет последними корнями своими от луча Божией очевидности и не ответит на этот луч целостным приятием в любви, радости и смертном решении, никакая внешняя корректность, выдержанность и полезность не дадут ему победы над злом. Ибо систематически непроявляемое зло не перестает жить в душе и, может быть, втайне владеет ею; и обычно бывает даже так, что оно незаметно просачивается во все внешне правильные поступки морального человека и отравляет их ядом недоброжелательства, зависти, злости, мести и интриги. Конечно, внешние воздействия, идущие от природы и от людей, начиная от благоухания цветка и величия гор и кончая смертью друга и примером праведника, могут пронзить мертвую душу лучом Божественного откровения; но самое преображение и заключительная преображенность всегда бывали и будут внутренним, душевно-духовным процессом и состоянием. Вызвать в себе эту потрясающую, таинственную встречу личной страстной глубины с Божиим лучом и закрепить ее силою духовного убеждения и духовного характера – значит бороться со злом в самом существе его и одолеть. Кто хочет подлинно воспротивиться злу и преодолеть его, тот должен не просто подавить его внешние проявления и не только пресечь его внутренний напор; он должен достигнуть того, чтобы злая страсть его собственной души из своей собственной глубины, обратившись, увидела; увидев, загорелась; загоревшись, очистилась; очистившись, переродилась; переродившись, перестала быть в своем злом обличии. Переживающий это, присутствует в самом себе при обращении своего личного сатаны; таинственный огонь – его собственный и в то же время больше, чем его собственный, – прожигает извечную неисправимость его души до самого дна; из самой темноты ее, из последней бездны, устами этой бездны возносится молитва благодарения и радости: душа исцеляется вся и вся сияет светом и уже по-новому обращается к Богу, к людям и к миру. Такое состояние души достижимо только на внутренних путях одухотворения и любви.
Добро и зло в их существенном содержании определяются через наличность или отсутствие именно этих двух сочетающихся признаков: любви и одухотворения.
Человек духовен тогда и постольку, поскольку он добровольно и самодеятельно обращен к объективному совершенству, нуждаясь в нем, отыскивая его и любя его, измеряя жизнь и оценивая жизненное содержание мерою их подлинной божественности (истинности, прекрасности, правоты, любовности, героизма). Однако настоящую силу и цельность одухотворение приобретает только тогда, когда оно несомо полнотой (пле́ромою) глубокой и искренней любви к совершенству и его живым проявлениям. Без пле́ромы душа, даже с верною направленностью, раздроблена, экстенсивна, холодна, мертва, творчески непродуктивна.
Человек любовен тогда и постольку, поскольку он обращен к жизненному содержанию силой приемлющего единения, тою силой, которая устанавливает живое тождество между приемлющим и приемлемым, увеличивая до беспредельности объем и глубину первого и сообщая второму чувства прощенности, примиренности, достоинства, силы и свободы. Однако любовь приобретает настоящий предмет для своего единения и свою настоящую чистоту только тогда, когда она одухотворяется в своем направлении и избрании, т. е. обращается к объективно-совершенному в вещах и в людях, приемля именно его и вступая в живое тождество именно с ним. Без духовности любовь слепа, пристрастна, своекорыстна, подвержена опошлению и уродству.
Согласно этому, добро есть одухотворенная (или, иначе, религиозно-опредмеченная, от слова «предмет») любовь; зло – противодуховная вражда. Добро есть любящая сила духа; зло – слепая сила ненависти. Добро по самой природе своей религиозно, ибо оно состоит в зрячей и целостной преданности Божественному. Зло по самому естеству своему противорелигиозно, ибо оно состоит в слепой, разлагающейся отвращенности от Божественного. Это значит, что добро не есть просто «любовь» или просто «духовная» зрячесть, ибо религиозно не осмысленная страстность и холодная претенциозность не создадут святости. И точно так же это значит, что зло не есть просто «вражда» или просто «духовная слепота», ибо вражда ко злу не есть зло; и беспомощное метание не прозревшей любви не составляет порочности. Только духовно слепой может восхвалять любовь как таковую, принимая ее за высшее достижение, и осуждать всякое проявление враждебного отвращения. Только человек, мертвый в любви, может восхвалять верный духовный вкус как таковой, принимая его за высшее достижение, и презирать искреннее и цельное заблуждение духовно не прозревшей любви. Такова сущность добра и зла; и может быть, христианскому сознанию достаточно вспомнить о наибольшей Евангельской заповеди (полнота любви к совершенному Отцу), для того чтобы в нем угасли последние сомнения.
При таком положении дел внутреннее местонахождение зла и внутренняя преоборимость его становятся вполне очевидными. Настоящее одоление зла начинается через глубинное преображение духовной слепоты – в духовную зрячесть, а замыкающейся, отрицающей вражды – в благодатность приемлющей любви. Необходимо, чтобы духовно прозрела не только вражда, но и любовь. Необходимо, чтобы любовью загорелась не только духовная слепота, но и духовная зрячесть. В освобожденной от зла, преображенной душе одухотворенная любовь становится подлинным, глубочайшим истоком личной жизни, так что все в душе делается ее живым видоизменением: и служба дня, и восприятие музыки, и чтение папируса, и созерцание горной грозы; и то высшее, строгое беспристрастие, в котором монах, ученый и судья выдерживают и себя, и других; и даже та безжалостная вражда ко злу в себе и в других, которая необходима пророку, государственному вождю и воину.
Такое преображение только и может быть осуществлено во внутренней духовной самодеятельности человека, ибо любовь не может загореться и одухотвориться по чужому приказу, а духовность может расцвести и насытиться полнотой (пле́ромой) только в длительном религиозно-нравственном самоочищении души. Конечно, помощь других может быть здесь велика и могущественна: и близких людей, и далеких; и семьи, и церкви; и в свободном научении духовному пути (методу), и в пробуждении любви живой любовью. И понятно, чем огненнее и прозорливее дух, тем большему он научит других в свободном общении, – и словом, и делом, и обличением, и утешением, и деятельным милосердием, и щедрою уступчивостью; и чем глубже и чище помогающая любовь, тем легче и плодотворнее передается ее огонь в душу другого, не горящего. Душа, сопротивляющаяся злу, нуждается для победы в любовности и духовности, и тот, кто дает ей духа через любовь и любви в духе, тот помогает ее победе и сопротивляется злу не только в себе, но и в другом. Преображение зла только и может быть осуществлено тою силою, в слепом искажении которой зло как раз и состоит: только сама духовно зрячая любовь может взять на себя эту задачу и победно разрешить ее до конца; только она может найти доступ в ту бездну слепого ожесточения и безбожного своекорыстия, из глубины которой должно начаться обращение, очищение и перерождение… И для христианского сознания здесь, кажется, не может быть ни спорного, ни сомнительного.