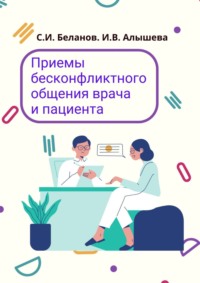Buch lesen: "Приемы бесконфликтного общения врача и пациента"
Иллюстратор Ирина Владимировна Алышева
© Сергей Иванович Беланов, 2024
© Ирина Владимировна Алышева, 2024
© Ирина Владимировна Алышева, иллюстрации, 2024
ISBN 978-5-0059-8995-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Приемы бесконфликтного общения врача и пациента
Предисловие. Почему врачам будет интересно прочесть эту книгу
«Чтобы Вас лечить, надо быть ветеринаром!», – так говорила заведующая отделением пациенту, который на вопрос «расскажите, что Вас беспокоит?» отвечал невнятно и односложно.
Это очень веселило нас, в то время молодых докторов. Как лихо, с юмором, заведующая ставит на место нудных и неприятных больных, коротко и доходчиво доносит нужную информацию.
Конечно, пациентов много, и, если из каждого вытягивать слова при сборе анамнеза, врачу никаких сил и времени не хватит.
Тот пациент рассказал родственникам, с кем его сравнивает врач, и была жалоба…
В медицинском институте на занятиях по деонтологии (основах медицинской этики) студенты часто слышат фразы: «Светя другим, сгораю сам», «Если после разговора с врачом, больному не становится легче, то это не врач».
А как себя вести, и что конкретно говорить вечно сомневающимся пациентам, которые предъявляют массу претензий, возражений и требований, преподаватели не сообщают.
Нам, авторам книги, приходилось узнавать все на своем опыте.
В этом практическом руководстве мы рассмотрим причины конфликтов на врачебном приеме: личностные, управленческие, социальные.
Ответим на вопрос: как себя вести, если пациент сомневается в компетентности врача, выражает недоверие в назначенном обследовании и лечении.
Долг врача – донести пациенту возможные последствия неправильного лечения или отсутствия лечения. Здесь и появляется необходимость грамотной коммуникации.
Как информировать пациента так, чтобы он принял правильное решение, при этом врачу сэкономить свои душевные и физические силы?
Ответ на этот вопрос дает эта книга о профессиональных коммуникациях врач – пациент.
Она содержит практические рекомендации, которые помогут снизить число жалоб, претензий, сэкономить силы, время врача и помочь пациенту.
С уважением,
авторы книги: Сергей Беланов, Ирина Алышева
Глава 1. Почему между врачом и пациентом возможен конфликт?
История взаимоотношений врача и пациента рассмотрена многими выдающимися представителями медицины прошлого. Об этом писали Гиппократ, Ибн Сино (Авиценна), Парацельс, Николас Ван Тульп и многие другие.
Эта тема остается интересной для врачей, потому что они сталкиваются с претензиями пациентов почти каждый день.
Когда врач описывает конкретные ситуации из практики, не остаешься к этому равнодушным.
Как пример, приводим отрывок из повести В. В. Вересаева, «Записки врача»1. Повесть впервые издана в 1900 году.
«На четвертый день Екатерина Александровна, волнуясь и кусая губы,
сказала мне:
– Вы не обижайтесь на меня, позвольте мне сказать вам, как частному лицу. Мне ваше лечение кажется чрезвычайно шаблонным: ванны, кодеин, банки, лед на голову. Теперь назначили digitalis.
– В таком случае распоряжайтесь, пожалуйста, вы, – я буду исполнять ваши назначения, – холодно ответил я.
– Да, нет, я ничего не знаю, – поспешно проговорила она. – Но мне хотелось бы, чтоб делалось что-нибудь особенное, чтобы уже, наверное, спасти Володю. Мама с ума сойдет, если он умрет.
– Обратитесь тогда к другому врачу; я делаю все, что нахожу нужным.
– Нет, я не то. Ну, простите, я сама не знаю, что говорю! – нервно оборвала себя Екатерина Александровна.
Для ухода за больным они пригласили опытную сестру милосердия. Тем не менее почти
не проходило ночи, чтоб Екатерина Александровна не разбудила меня. Позвонится, вызовет через горничную.
– Володе хуже стало, он бредит и стонет, – сообщает она. – Пожалуйста, пойдемте.
Я безропотно иду. Но иногда у меня не хватает терпения.
– Вас сестра милосердия прислала, или это вы находите нужным мое присутствие? – спрашиваю я недобрым голосом.
Ее темные глаза загораются негодованием; Екатерина Александровна еле сдерживается, видя, как я ценю свой сон.
– Я думаю, что сестра милосердия – не врач, и она не может об этом судить, – резко отвечает она.
Иду с нею. Мальчик бредит, мечется, дышит часто, но пульс хороший, и никакого вмешательства не требуется. Раздраженная сестра милосердия сидит на стуле у окна. Я молча выхожу в прихожую.
– Что теперь делать? – спрашивает Екатерина Александровна. – У него слабеет пульс.
– Продолжать прежнее. Пульс прекрасный, – угрюмо отвечаю я и ухожу. И по дороге я думаю: если в течение года непрерывно иметь хоть по одному такому пациенту, то самого крепкого человека хватит не больше, как на год.
Назавтра мальчик чувствует себя лучше, – и глаза Екатерины Александровны смотрят на меня с ласкою и любовью. Вообще, еще не видя больного, я уж при входе безошибочно заключал об его состоянии по глазам открывавшей мне дверь Екатерины Александровны: хуже больному – и лицо ее горит через силу сдерживаемою враждою ко мне; лучше, – и глаза смотрят с такою ласкою!
Кризис был очень тяжелый. Мальчик два дня находился между жизнью и смертью. Все это время я почти не уходил от Декановых. Два раза был консилиум. Мать выглядела совсем как помешанная.
– Доктор, спасите его! Доктор.
И, крепко сжимая своими сухими пальцами мой локоть, она пристально смотрит мне в глаза жалкими, молящими и в то же время грозными, ненавидящими глазами, как будто хочет перелить в меня сознание всего ужаса того, что будет, если мальчик умрет.
Мальчик, с синим, неподвижным лицом, дышит часто и хрипло, пульс почти не прощупывается. Я кончаю исследование, поднимаю голову, – и из полумрака комнаты на меня жадно смотрят те же безумные, грозные глаза матери.
Больной вынес кризис. Через два дня он был вне опасности. Мать и дочь приехали ко мне на дом благодарить меня. Господи, что это были за благодарности!
– Доктор, голубчик! Дорогой! – в экстазе твердила мать. – Вы понимаете ли, что вы для меня сделали?.. Нет, вы не поймете!.. Господи, как мне вам сказать?.. Когда я буду умирать, у меня в голове один вы будете! Вы не знаете, я дала обет скорбящей божьей матери… Как мне вас отблагодарить, я навеки ваша должница неоплатная!.. Доктор!.. Простите…
И она хватала мои руки, чтобы целовать их Екатерина Александровна, улыбаясь своими славными сумрачными глазами, горячо пожимала мне руку обеими руками. А я – я смотрел в глаза обеих женщин, сиявшие такою восторженною признательностью, и мне казалось, что я еще вижу в них исчезающий отблеск той ненависти, с которою глаза эти смотрели на меня три дня назад.
Они ушли. Я взялся за прерванное их приходом чтение. И вдруг меня поразило, как равнодушен я остался ко всем их благодарностям; как будто над душою пронесся докучный вихрь слов, пустых, как шелуха, и ни одного из них не осталось в душе. А я-то раньше воображал, что подобные минуты – «награда», что это – «светлые лучи» в темной и тяжелой жизни врача! Какие же это светлые лучи? За тот же самый труд, за то же горячее желание спасти мальчика я получил бы одну ненависть, если бы он умер.
К этой ненависти я постепенно привык и стал равнодушен. А неожиданным следствием этого само собою явилось и полнейшее равнодушие к благодарности. Все больше я стал убеждаться, что и вообще нужно прежде всего выработать в себе глубокое, полнейшее безразличие к чувству пациента. Иначе двадцать раз сойдешь с ума от отчаяния и тоски.
Я замечаю, как все больше начинаю привыкать к страданиям больных, как в отношениях с ними руководствуюсь не непосредственным чувством, а головным сознанием, что держаться следует так-то. Это привыкание дает мне возможность жить и дышать, не быть постоянно под впечатлением мрачного и тяжелого».
Вот так да… Оказывается, равнодушие врача – это защитная реакция!
У врача каждый день на приеме десятки пациентов. Каждый из них ждет, что его выслушают, вникнут в его состояние и обязательно помогут. Если врач с полной отдачей и вовлеченностью будет вникать в проблемы всех больных, сопереживать и оплакивать все неблагоприятные исходы, понятно, что надолго его не хватит.
Невозможно умирать со всеми своими пациентами. Поэтому вырабатывается защитный механизм, и врач не позволяет себе слишком глубоко вникать в порой трагически развивающуюся болезнь.
Мы согласны с В. В. Вересаевым, что важно отстраненно относится к чувствам пациента.
Но именно к чувствам. Если врач начнет в первую очередь обращать внимание на чувства, то это может ему помешать разобраться, что случилось с пациентом, поставить правильный диагноз.
При этом задача врача – видеть в пациенте человека, которому страшно и больно. Такое видение позволит найти слова поддержки, утешения, вызвать доверие. Доверительные отношения помогут пациенту тоже взять на себя ответственность за лечение.
Так, если пациент осознанно выполняет рекомендации врача, понимает цель лечения, то он не будет пропускать прием лекарств, пройдет все необходимые обследования.
А это приведет к тому, что будет получен наилучший клинический результат, который возможен в этом случае.
Таким образом профессиональное общение врача с пациентом поможет доктору быть убедительным, рационально тратить свои время, силы и лучше помочь пациенту.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.