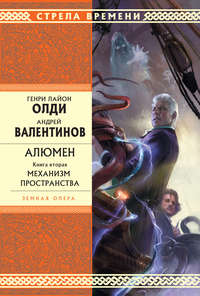Buch lesen: "Механизм Пространства"

С благодарностью посвящается Виктору Гюго, Александру Дюма, Жюлю Верну, Роберту Льюису Стивенсону, Чарльзу Диккенсу – титанам, на чьих плечах мы стояли…
Увертюра1
Я – обезумевший в лесу Предвечных Числ!
Открою я глаза: их чудеса кругом!
Закрою я глаза: они во мне самом!
За кругом круг, в бессчетных сочетаньях,
Они скользят в воспоминаньях.
Я погибаю, я пропал,
Разбив чело о камни скал,
Сломав все пальцы об утесы…
Как бред кошмара – их вопросы!
Эмиль Верхарн
1. Allegro
Malbrouck s'en va-t'en guerre2
Торбен Йене Торвен достал свои пистолеты.
Шкатулка, выточенная резчиком из цельного куска ясеня, угрюмо легла на столешницу. Она демонстрировала полное отсутствие энтузиазма. Блеск полировки, и тот померк. Потревожили, не спросили, даже пыль не вытерли. Дорогая штучная вещь всем своим видом протестовала, не желая смиряться с очевидной нелепостью происходящего. Номер дешевого отеля, старые обои в цветочек, колченогий стол; медный уродец-канделябр сверху донизу залит воском…
Это ли место для изделий мастера Франсуа Прела?
Канделябр вообще готовился к худшему. За долгие годы службы в отеле он навидался всякого и очень хорошо знал, чем завершаются подобные дела. Сейчас беспокойный жилец придвинет поближе старушку-чернильницу, возьмет перо, выведет на бумаге, которая все стерпит, роковое: «Прошу никого не винить…» или «Моя честь требует…».
Дальше – полиция, протокол, вынос вещей, репортеры.
Хаос.
Безответная чернильница замерла в ожидании неизбежного. Кому-кому, а ей было отлично известно, что шкатулки с пистолетами просто так на стол не ставятся. Последний раз, в апреле, дело закончилось скверно, но терпимо – постояльца, чья честь настоятельно требовала прогулки на дальнюю околицу Парижа, привезли в отель с пулей в бедре. Выжил, отлежался, изрядно пополнив кассу заведения. А вот его предшественник… Ох, страсти какие! – и вспоминать не хочется. Молодой поэт две недели ждал письма от предмета нежных чувств. Наконец, дождался, только не от нее; достал из чемодана дубовый, похожий на гроб, короб с убийственными красавцами Лепажа, долго возился с шомполом и пороховницей…
Чернильница вздрогнула, едва не расплескавшись. Канделябр с неодобрением покосился на соседку. Извините, сударыня, но о службе забывать не след. Иначе сраму не оберешься. Гость нам на этот раз попался серьезный, не чета поэту-бедолаге. Томных вздохов не издает, лирику не декламирует; улыбается редко и все пишет, скрипит перышком.
Зануда – или даже Великий Зануда.
Великий Зануда, он же гере Торвен, сочувственно выслушав немой диалог обитателей номера, чуть не пустился в оправдания. Дамы и господа, стреляться у меня и в мыслях не было! Не юный Вертер, слава богу, дуэли определенно не по нашей части. Такое пристало гусарам или светским хлыщам-бездельникам; я же – помощник академика Эрстеда, секретаря Датского Королевского научного общества. Человек тихий, спокойный, положительный; иметь дело привык не с оружием, а с бумагой, перьями – и такими же почтенными чернильницами, как глубокоуважаемая мадам.
Верно подметила некая юная дева из страны драконов: я, ваш покорный слуга – Бумажный Червь. Сomprenez vous?3 Впрочем, поразмыслив, Торвен раздумал оправдываться. Не поверят! Слова – одно, шкатулка с оружием – нечто иное, куда как более убедительное. Дуэлянт – и точка. Сподобился на старости лет!
Бретёр, Rassa do!4
Первый раз Торвена вызвали на дуэль в Копенгагенском университете, куда он, отставной лейтенант двадцати лет от роду, приковылял, опираясь на крепкую трость – прямо с проигранной войны. Денег, чтобы заплатить за обучение, не было. Их едва хватало на жизненно необходимые надобности: утром – чашка скверного кофе, ночью – каморка на чердаке. В военном департаменте разводили руками, обещая рассмотреть вопрос о пенсии не позднее, чем через год; в крайнем случае, через два.
– Дания переживает тяжелые времена, майне гере! Будьте патриотом!
Выручил давний знакомый, можно сказать, сослуживец – пожилой офицер с длинным, породистым носом. Он, как и Торвен, любил гулять, опираясь на известную всей Дании трость с серебряным набалдашником. Офицер моргнул со значением, и канцелярия университета сделала вид, что за обучение отставного лейтенанта на юридическом факультете уже заплачено.
Увы, этим дело не кончилось. Будущие коллеги-юристы оказались не столь равнодушны к новичку. Гордая корпорация буршей, созданная по примеру немецких университетов, снисходительно согласилась зачислить Торвена в число «grunschnabelen», то есть «молокососов», дабы дать ему, недостойному, пройти суровую школу подчинения – от «перышка» и «подонка» до долгожданного «камрада».
Скромняга Торвен, желавший всего лишь выучиться на адвоката, не оценил заботы – и не стал отвечать на недвусмысленное предложение «братства». Результат последовал без промедления. Самый задиристый из «камрадов» привселюдно, после лекций, объяснил невеже, кто он таков и чего стоит.
Краткая речь завершилась изящным щелчком по носу.
Отставной лейтенант удивился – и, не вступая в объяснения, избил «камрада» до потери сознания, даже не прибегая к помощи верной трости. Он воспользовался ею через три часа, когда к обнаглевшему «молокососу» подвалили сразу трое.
Братья-бурши почесали затылки, утерли разбитые носы – и взялись за дело всерьез. Через месяц, когда обидчиков выписали из городской больницы, последовал формальный вызов на дуэль. Торвен молча выслушал присланных секундантов, немного подумал – и предложил им идти восвояси. Маршрут он описал подробно, по-фронтовому. Возмущенные «камрады» воспользовались советом, но побежали не по указанному адресу, а к родителям. Почтенные отцы семейств нахмурились – и дружной толпой направились прямиком в Амалиенборг искать управу на наглеца, не чтящего традиций.
Но тут случилась осечка.
– Святой Кнуд! Что за вздор? – знакомый офицер изволил пристукнуть тростью по наборному паркету. – Господа, мы искренне советуем вам и вашим чадам обходить нашего лейтенанта седьмой дорогой! Что? Вы хотите знать, по какой причине? Ради блага королевства и собственной безопасности…
В устах Фредерика VI слова «наш лейтенант» звучали яснее команды:
– Пли!
На третьем курсе Торвену предложили стать главой корпорации. Он отказался, но в «камрады» все-таки записался. Ребята оказались славными, пусть и не нюхавшими пороха. К тому же у отставного лейтенанта созрели соображения по существенному улучшению работы университетского Burschenschaften.
О несостоявшейся дуэли никто не вспоминал.
Позднее Торвена вызывали еще трижды; один раз – по его собственной инициативе. Так и не став адвокатом, он уже служил помощником у гере Эрстеда-старшего – и вызовы принимал по долгу своей многотрудной службы. Вспоминать об этих случаях Зануда не любил.
Отогнав воспоминания, он вернулся к зловещей шкатулке. Ишь, красотка! На днище – лосиная кожа; замок запирается изящным ключиком. В такой не оружие носить – дамские безделушки. Собственно, на это и расчет.
Знает дело мастер Прела!
Ключик повернулся без звука, повинуясь легкому движению. Извольте взглянуть, хозяин, все на месте, все дома. Пистонница, пулелейка c ножницами, латунная масленка. Отвертка с костяной рукоятью, пороховница. И пули – дюжина, как на подбор. И, конечно, пистолеты, братцы-»жилетники».
Система была новая, непривычная – с отвинчивающимся стволом для более удобной зарядки. Хозяин оружейной лавки, учуяв денежного клиента, пытался всучить «изделия» с позолотой, с гравировкой-орнаментом, только не на того напал.
– Украшают подарки возлюбленным, – сказал Торвен хитрецу. – Оружию к лицу чистая полированная сталь. Желательно – дамасская.
Крышка с бронзовой бляхой «Prelata a Paris» опустилась на место. Времени оставалось достаточно, и Зануда решил завершить некоторые дела. Пистолеты – пистолетами, а порядок должен быть. Рука метнулась к гусиным перьям, ждущим в деревянном стаканчике.
Чернильница вздохнула: сейчас начнется. «…Вынужден послужить своей чести, которая дороже для меня, чем трижды постылая жизнь…» Старушка ошиблась – Торбена Йене Торвена интересовали вещи иного рода. Какие именно, чернильнице, коренной парижанке, понять было мудрено. Зануда писал на родном датском, по давней студенческой привычке сокращая слова и сминая фразы.
«Шевалье Огюст. Соц. Рев. Бунт. Баррикады. Брат – в тюр. Друг Галуа. Приятель Тьера. Ненавидит полк. Э. Считает уб. Галуа. Нелогично. Оговорили? Встреча Шевал. с полк. Э. сегодня, в Бул. Цель – объясниться. Опасно? Опасно!»
С молодым человеком, отрекомендовавшимся как Огюст Шевалье, довелось познакомиться почти месяц назад – случайно, в кабачке «Крит». Здоровяк-южанин, скорее похожий на грузчика, чем на социалиста-баррикадника, взвалил на себя тяжкий груз мести – и, похоже, был готов надорваться. Вначале Зануда счел ситуацию легко разрешимой. Навел справки, задал ряд вопросов кому следует. Друг Эвариста Галуа, судя по добытым сведеньям, оказался парнем неплохим, хотя и чрезмерно революционным. Жаль, если свихнется на почве мщения. Куда лучше свести их с полковником – уладить конфликт, охладить горячую голову…
Пока готовилась встреча, Шевалье по средам и субботам заходил в «Путеводную звезду»: справиться о ходе дела. И каждый раз, выясняя, что свидание откладывается, нервничал все больше. Мрачнел, замыкался; кипел от подозрений. Даже обвинил Торвена в чем-то плохо понятном, но непростительном – то ли саботаже, то ли заговоре. Молодой человек вызывал у Зануды симпатию, но ждать «мсье социалист» не умел категорически.
Его волнение странным образом передалось Торвену. Началась бессонница, возникла раздражительность. У гостиницы мерещились соглядатаи. В любом прохожем виделся шпик. Кто ж его знал, что все кончится покупкой пистолетов?
Перо замерло в воздухе, ожидая продолжения. Заточенное, раздвоенное, как жало змеи, острие повисло над словом «Опасно». Дрогнуло, провело длинную черту; заскользило вновь – ниже обозначенной границы.
«Николя Леонар Сади Карно…»
Главное поручение Королевского научного общества, приведшее датчанина в Париж, тоже вначале казалось простым. Торвен вздохнул. Пора выводить новый физический закон делопроизводства: «Дела при прочих равных условиях идут по пути наибольшего сопротивления».
Увы!
«…сын Лазара Карно – якобинца, цареубийцы, вел. математика. Капитан фр. армии, весной 1832 г. вернулся на действит. службу. Инженер. Характер раб. секретн. Хорош. знаком. Тьера, кот. помог К. вернуться в армию…»
– Ничего, год-два – и Николя Карно им всем покажет! Говорили мы с ним в Париже… Он такое, лейтенант, придумал! Пар – вчерашний день. Нужен движитель экономный, мощный; движитель для Будущего…
Словно наяву Торвен услышал голос Андерса Эрстеда – чудилось, полковник стоит рядом, превращая номер дешевого отеля в палубу героического «Анхольта», а впереди, в ночи, полной гиен и настойчивых мертвецов, обоих ждет штурм Эльсинора.
Перо метнулось вверх, к предыдущей записи. Нашло нужное слово, дважды подчеркнуло: «Тьер». Поразмыслив, уточнило в уголке: «Товарищ мин. фин.». С маленьким человечком и великим карьеристом Торвен успел свести знакомство.
Гномик ему не понравился.
«…Единств. опубликован. работа: „Размышления о движущей силе огня“, 1824 г. Дальнейш. исслед. К. держит в тайне. Об опасности предупрежден: в письме и мною личн. Не принял всерьез. Нелогично. Глупо».
Странные люди французы! Нелогичные – в устах Зануды такое определение было равносильно грязной брани. Он понял это еще в юности, оказавшись по милости нелогичных французов в далекой, насквозь промерзшей – даже пожар не спасал! – Москве.
С тех пор потомки галлов не слишком изменились.
Дама-Логика, чьим верным паладином Торвен считал себя всю жизнь, страдала. Все шло наперекосяк, противореча элементарному здравому смыслу. Если некий злодей тщится навеки скрыть от глаз людских важный секрет, что может ему помешать? Благородный рыцарь в доспехах, сверкающих миланской сталью? Романтический герой в черном плаще и в шляпе до бровей? Авантюрист с верной шпагой? Отнюдь – и не таким шею сворачивали. А вот печатный станок, простой и прозаический инструмент, способен творить чудеса. Как только исследования Карно будут явлены миру, даже легион коварных злодеев признает поражение.
Любой научный журнал, десяток страниц, измазанных краской, спасет не только открытие, но и жизнь упрямца-инженера. Как спасли бы Эвариста Галуа – и не его одного.
Даме-Логике оставалось лишь грустно вздыхать. Карно не собирался ни спасать, ни спасаться. Еще более странно вел себя Огюст Шевалье. Неспроста этот горячий, как июньский полдень, бунтарь стал подозревать Андерса Эрстеда. Кто-то очень умный подсказал, подтолкнул, заботливо подстелил под ноги ложный след.
Острие пера решительно чиркнуло по бумаге, подводя итог: «Принять меры! Убедить!» Кажется, все. Самое время доставать пистолеты. Впрочем, нет, еще одно:
«Гарибальди Джузеппе, прозв. „Осип“ (дали русск.). Капитан шх. „Клоринда“. Доставил меня в Париж из Гавра. Итал., род. в Ницце. Потомств. моряк. Учился на священ. Не выучился».
Торвен усмехнулся. А он еще недоумевал, отчего милейший синьор Осип готов рвать зубами каждого, кто в рясе. «О, эти попы, эти божьи дудки, culi rotto, уж простите за выражение, эти ханжи, эти vaffanculi, святоши, лжецы, merda cagna, предатели, негодяи, porka Madonna!..»5 Чину ангельскому икалось с завидной регулярностью. Да, славный ты капитан, Джузеппе Гарибальди. Бесхитростный, честный; простой, как средиземноморский зюйд-ост.
«…неоднокр. плавал в Россию. Дядя – Антон Феликс Гарибальди, посланник Сардин. королевства, резиденция – город Kerch. Крупн. незакон. сделки. Контрабанда. Перевалоч. базы – Крит, Корсика, Одесса. Мож. быть полезен».
Кивнув в такт мыслям, Зануда отложил листок в сторону. Все мы люди, все человеки, всем требуется butter на насущный brod. В годы давние, когда выпускник университета Торвен искал возможность заняться адвокатурой, он бы не отказался пару раз сплавать в загадочный город Kerch на лихой шхуне контрабандистов – подзаработать на собственную юридическую контору. Темное небо, яркие звезды, паруса над головой…
Увы, Балтика – не Черное море, а он – калека, не моряк.
Бумага сложилась вдвое, вчетверо, нырнула в уютный боковой карман. За отсутствием сейфа Зануда предпочитал хранить документацию именно там. Благо, ее не слишком много. В правом кармане – личные записи, в левом – письма…
Он хлопнул себя по лбу. Письма! Неотвеченные! Целых два! Расслабился ты, дружок, в славном городе Париже, службу забыл. Думал отписаться сразу после завтрака, но что-то помешало. И сейчас мешает – стрелки часов вот-вот подойдут к нужной точке.
Непорядок!
На первом конверте – детский почерк: смешной, крупный, с наивными завитушками. Не удержавшись, Зануда достал письмо, читанное уже дважды. «Глубокоуважаемый гере Торвен, мой милый батюшка! Спешу известить Вас о полнейшем нашем благополучии, чему свидетелем является почтительный сын Ваш, Бьярне Йене Торвен, и я, Ваша послушная дочь…» Подпись – большими печатными буквами: «Маргарет Торвен».
Перед отъездом «глубокоуважаемый гере» подарил дочери полезную и нужную книгу: «Письмовник, или Сочинение изящных и нравственных посланий на все случаи жизни». Плоды просвещения созрели быстро. Торвен вновь скользнул глазами по строчкам: «…чему свидетелем является…»
Сам виноват – не перелистал загодя подарок!
Второе письмо он извлекать не стал, лишь поглядел на конверт. Почерк дочери был неплох, по крайней мере, для ее возраста. А вот эти каракули с первого раза и не одолеешь. Зато ни с чем не спутаешь!
– Ах, мой милый Андерсен,
Андерсен, Андерсен!..
Спохватившись, Торвен укусил себя за язык. Песня преследовала его который месяц, не давая покоя ни днем, ни ночью. Забыть не получалось, оставалось одно – выбить клин клином. Если уж даровал Господь привычку мурлыкать в часы раздумий всякую ерунду, то ерунду следует подбирать с умом.
Он вернул конверты на место, ближе к сердцу; открыв шкатулку, поглядел на изделия мастера Прела, замершие в ожидании. Про милого Андерсена петь не ко времени. Ханс Христиан, одаривший «дядю Торбена» очередной трудночитаемой эпистолой, далеко, в маленькой уютной Дании. Здесь – Франция, Париж, город, где на деловую встречу ходят с пистолетами. Песня обязана соответствовать.
Что-нибудь походное, боевое, французское…
– Мальбрук в поход поехал,
Миронтон, миронтон, миронтень,
Мальбрук в поход поехал,
Ах, будет ли назад?
Совсем другое дело!
Торбен Йене Торвен не торопясь вынул пистолеты из шкатулки. Зарядил, сунул за пояс, наглухо застегнул сюртук; похлопал для верности по серой ткани. Кажется, все в порядке. Трость. Шляпа. Фиакр ждет у крыльца. Стрелки часов, едва заметно дрогнув, дали отмашку.
В поход!
– Назад он будет к Пасхе,
Миронтон, миронтон, миронтень,
Назад он будет к Пасхе
Иль к Троицыну дню!
2. Adagio
Сказки Булонского леса
– Позвольте взять вас под руку, мсье Торвен.
– Благодарю за заботу. Когда я почувствую, что скоро упаду, я непременно воспользуюсь вашим любезным предложением.
Огюст ощутил неловкость. Не следовало лишний раз напоминать упрямцу о его хромоте. Но смотреть, как Торвен, подволакивая ногу, отчаянно ковыляет по тропинке, было больно. Фиакр они оставили у съезда с тракта. Торвен взял с кучера слово, что тот дождется возвращения пассажиров. Датчанин не был стеснен в средствах: расплатившись с возницей, он в придачу оставил тому щедрый задаток за обратную дорогу.
По мнению Шевалье, делать этого никак не следовало. Плутовская рожа, а главное, торчащие в стороны, истинно кошачьи усы кучера не вызывали ни малейшего доверия. Возможно, в Дании, где каждый – бессребреник и честняга, все обстоит иначе. Но Париж – не Копенгаген, тут надо держать ухо востро.
Торвен мог смело сказать «adieu!» и денежкам, и фиакру.
Под ногами хрустели прошлогодние желуди. Булонский лес так до конца и не оправился от нашествия трех армий – русской, английской и прусской, – которые разбили здесь бивуаки двадцать лет назад. Путники то и дело натыкались на следы застарелых кострищ, наполовину обугленные бревна, расщепленные пни на месте вековых дубов и ржавые ободья колес.
«Наверняка мы, французы, оставили в России точно такие же следы, – мельком подумалось Огюсту. – Солдатское свинство – меньшее из зол. Сожженные города и деревни, тысячи убитых – вот истинный лик войны. А это так, мелкие издержки…»
Увы, «издержки» изменили облик леса до неузнаваемости. Шевалье не довелось побывать здесь до прихода победителей – в те годы он был ребенком и жил с семьей в Ниме. Но воображение живо рисовало картины минувшего.
Когда-то глухая и сумрачная Булонь служила убежищем многочисленным шайкам разбойников. Дабы пресечь безобразие, по приказу Генриха II лес обнесли крепостной стеной и выставили стражу. Наиболее рьяных грабителей, к радости горожан, изловили – и повесили в назидание дружкам на холме Монфокон.
«Здесь вам не Шервуд, – якобы сказал король, гневаясь, – а мое величество, клянусь Распятием, не шериф Нотингемский! Если мы и потерпим робин-гудовщину, то разве что в английских народных балладах! Ишь, взяли моду… Где наша высокая виселица?»
В итоге Булонская вольница сошла на нет.
При Людовике XIV здесь вырубили первые просеки и проложили дороги. Лес, ставший безопасным, открыли для публики. Во времена Революции робин-гудовщина вернулась – сюда бежали все, кому светила встреча с Национальной Бритвой: сперва – недорезанные «аристо», а следом – их недавние обвинители.
Не одни беглецы от правосудия злоупотребляли здешним гостеприимством. Укромные поляны и заросли орешника по вечерам превращались в охотничьи угодья жриц любви. Даже поговорка ходила:
«В Булони жениться – кюре не нужен!»
В темноте, как известно, все кошки серы. Вечерние тени надежно скрывали морщинки, платье не первой свежести, а то и подбитый глаз. Шлюхи подороже в лес не заглядывали, предпочитая Ситэ и Латинский квартал. Но студиозусов, разгоряченных вином, «булонушки» вполне устраивали. Тем более, что брали они за деликатные услуги по-божески.
В первый год своего пребывания в Париже Огюст нередко забредал сюда в компании однокашников из Нормальной Школы. Но потом бросил наведываться под сень дерев, ибо познакомился с пухленькой молочницей, обитавшей по соседству. И ближе, и дешевле. А иногда, под хорошее настроение Констанции, и вообще даром.
Впрочем, дорогу к назначенному месту встречи он помнил.
По одной из версий, начало сомнительной славе Булонского леса положило выстроенное здесь Лоншанское аббатство. О, это был истинный вертеп разврата! По части плотских утех монашки дали бы фору индийским баядерам. Но однажды аббатиса ухитрилась наградить Генриха Наваррского, заглянувшего «на огонек», дурной болезнью. Неудовольствие короля роковым образом сказалось на судьбе обители – в монастыре сменили весь контингент монахинь, включая мать-настоятельницу, и нещадно ужесточили устав. Впрочем, обитель по-прежнему маячила в центре скандалов – церковных, имущественных, амурных и даже политических.
Ныне аббатство пустовало.
Тропа свернула вправо. Обогнув гнилой остов телеги, вросший в землю, они миновали пораженный ударом молнии дуб. Раскорячившись буквой «V», мертвый великан возвышался над тропой, словно грозное предостережение. Минута, другая – и дуб остался за спиной, а там и скрылся за поворотом. Но Шевалье затылком продолжал ощущать тяжелый, недобрый взгляд.
Датчанин тоже чувствовал себя неуютно. Дважды он оглядывался на ходу – и во второй раз чуть не упал. Огюст едва успел поддержать его. Выругавшись, Торвен двинулся дальше, на ходу поправляя пистолеты, укрытые под сюртуком. То, что его спутник вооружен, Шевалье заметил еще в фиакре: рукояти пистолетов явственно выпирали сквозь тонкую ткань.
Сам Огюст отправился на встречу, прихватив лишь наваху. И теперь спрашивал себя: а не слишком ли он беспечен? Возможно, стоило принять меры предосторожности? Мсье Торвен предлагал вооружиться, прихватить с собой надежных друзей…
«Решил показать себя храбрецом? Теперь не жалуйся…»
Он на миг остановился, прислушиваясь. В тишине почудились крадущиеся шаги – словно кто-то скрытно преследовал двух людей. Но тут как назло налетел хулиган-ветер, ероша кроны деревьев. Лес наполнился издевательским шелестом, шепотом и треском. Под такой аккомпанемент и слон сумел бы подкрасться незаметно.
Плюнув в сердцах, Огюст поспешил за ушедшим вперед датчанином.
Наконец они вышли на маленький, выгнутый подковой луг. Напротив высились ветшающие стены аббатства. Ветер в поднебесье продолжал трудиться – оставив лес в покое, он разгонял тучи, копившиеся с утра. Из прорех блеснуло солнце, и мир преобразился – утратив похмельную сумрачность, он засиял всеми красками чудесного июльского утра.
Руины, густо оплетенные плющом и диким виноградом, предстали в солнечном свете скорее символом торжества жизни над мертвым камнем, нежели напоминанием о бренности бытия. Торвен с любопытством рассматривал монастырь.
– Сюда бы гере Андерсена, – пробормотал он, морща лоб. – Ханс обожает древность. Глядишь, сочинил бы какую-нибудь «Лесную обитель», на манер братьев Гримм. Доблестному трубочисту является призрак монашки-грешницы…
– Андерсен? – Огюст вспомнил разговор с Дюма. – Его случайно не Жаном-Кристианом зовут, вашего Андерсена?
– Хансом Христианом. Вы знакомы?
– О нем в частной беседе упоминал один литератор. Я говорю о Дюма.
– Как тесен мир! Вчера я получил от Ханса письмо. Он сообщает, что господин Дюма дал согласие на переработку пьесы «Нельская башня». Осенью намечена премьера в Копенгагенском драматическом театре.
– Весь мир – театр, – Шевалье огляделся. Ветер утих, лес замер в ожидании. – Вы уверены, что мсье Эрстед появится?
– Абсолютно. Полковник – человек пунктуальный, – Торвен извлек из кармашка позолоченный «Breguet», щелкнул крышкой. – Мы прибыли раньше. До назначенного срока – еще четверть часа. Подождем.
– Ваше ожидание закончилось, граждане заговорщики.
Из-за кустов жасмина, разросшихся в проломе стены, объявились люди. Сперва Шевалье решил, что засада – дело рук Торвена, и был готов с ножом кинуться на своего спутника. Но миг спустя он узнал вожака – и проклял собственную беззаботность.
Пеше д'Эрбенвиль сильно изменился, и не только внешне. На лбу багровел уродливый шрам – памятка о злополучной дуэли; щеки покрывала недельной давности щетина. Рукава мятой, несвежей рубашки были закатаны по локоть, о фраке и речи не шло. В правой руке бретер держал обнаженную саблю.
У пояса болталась вторая – в ножнах.
Сейчас д'Эрбенвиль походил на разбойника с большой дороги или санкюлота времен взятия Бастилии. От лощеного кавалера, сердцееда и завсегдатая светских приемов не осталось и следа. Глаза горели лихорадочным огнем, язык поминутно облизывал сухие, растрескавшиеся губы. Дышал он тяжело, с присвистом, будто не ждал в тени жасмина, а всю дорогу бежал, преследуя добычу. Пахло от него, как от дикого зверя.
Позади бретера топтались двое громил – точь-в-точь горгульи с карниза Нотр-Дам.
– Что вам угодно, господа?
От ледяной вежливости в вопросе Торвена замерзло бы и море. Опершись на трость, свободной рукой датчанин как бы невзначай расстегнул верхнюю пуговицу сюртука. Чтобы добраться до пистолетов, прикинул Шевалье, ему потребуется расстегнуть еще две-три.
– Нам угодно, – в хриплом, больном голосе д'Эрбенвиля звучало торжество, – задержать иностранного шпиона, вступившего в сговор с государственным преступником.
– Где вы здесь видите шпионов и преступников?
Пальцы датчанина взялись за следующую пуговицу. Та оказалась упрямой, не желая протискиваться в петлю.
– Да вот же, передо мной, мсье Торвен! Или вы надеялись, что ваш интерес к трудам Николя Карно останется незамеченным? Собрались похитить секреты военного министерства Франции? Не выйдет! Полиция не дремлет!
– Оставьте пафос, сударь. Мы не в театре. И вы, судя по внешнему виду, не Мадемуазель Жорж, – на лице Торвена не дрогнул ни один мускул. – Скажу честно, на полицейских вы тоже не слишком похожи. Соблаговолите предъявить документы, подтверждающие ваши полномочия. Иначе я буду вынужден считать вас шайкой банальных грабителей.
Пуговица по-прежнему не поддавалась.
«Надо тянуть время, – решил Огюст. – Пусть он доберется до пистолетов. Отставной лейтенант должен метко стрелять. А там – как повезет…»
– Мсье Торвен, позвольте отрекомендовать: этого негодяя зовут Пеше д'Эрбенвиль. В прошлом месяце я дрался с ним на дуэли. Видите шрам? – моя отметина. Похоже, он решил со мной поквитаться. Все остальное – пустые разговоры.
– Я так и полагал, что он – не полицейский.
– Он работал на полицию. Доносчик, наушник, провокатор. Но это, к счастью, в прошлом. Кому нужен рассекреченный агент? Какая с него польза? Верно я говорю, Пеше?
Огюст демонстративно сунул руку за пояс, нащупывая наваху. Смотри на меня, мерзавец! На меня! Вот так… Действуйте, мсье Торвен! – вам жарко, вы вспотели, вам необходимо расстегнуть сюртук…
Д'Эрбенвиль со злобой ухмыльнулся.
– Бывших агентов нет, Шевалье! Тебе следовало бы это знать! Живой шпион и мертвец-баррикадник – славный подарок для префекта Жиске, не правда ли? Ты сломал мою жизнь. Из-за тебя меня не желают видеть в свете. Префект намекает, что мне лучше вовсе уехать из Парижа… Но это легко исправить, мой дружок! Заговор разоблачен, преступник, оказавший сопротивление, убит при аресте, а шпион доставлен в участок! Этого с лихвой хватит, чтобы вернуть расположение префектуры…
Торвен справился со второй пуговицей и взялся за третью.
– Убьешь безоружного? Нож против сабель? А что скажет префект? Трое агентов без кровопролития не смогли арестовать двух мирных господ, прогуливавшихся в лесу? Думаешь, тебе поверят? Каторгу за убийство еще никто не отменял!
– Поверят, не сомневайся! У тебя было оружие, – д'Эрбенвиль хлопнул ладонью по сабле в ножнах. – И сопротивлялся ты, как черт. Жак и Люсьен подтвердят.
– Под присягой?
– Да хоть на исповеди!
Громилы за его спиной дружно кивнули.
«А рожи-то знакомые! – мысленно охнул Шевалье. – Один, помнится, ошивался вокруг „Крита“. Я еще решил: хочет наняться в вышибалы…» Громила и позже попадался Огюсту на глаза: у дома, возле гостиницы, куда молодой человек наведывался, спрашивая Торвена… Выследили, ублюдки! Получается, он и датчанина подвел, что называется, под монастырь. Уверил себя, что баррикада Сен-Дени забыта, утратил бдительность…
Мальчишка!
Теперь ясно, как Пеше узнал о сегодняшней встрече. Кивок на полицию плюс горсточка франков легко развязывают язык консьержке. Да и портье «Звезды» делается на удивление словоохотлив. Мсье Торвен, господа, просил разбудить пораньше, собрался куда-то ни свет ни заря…
– Предлагаешь повторить нашу дуэль? На твоих условиях?
– Дуэль? – д'Эрбенвиль с издевкой хохотнул. – Забудь, гаденыш! Я просто заколю тебя, как мясник – свинью. Обожду, пока ты издохнешь, а потом вложу в твою руку саблю.
Кровь бросилась в лицо Шевалье.
– Мразь! Жаль, что я не перерезал тебе глотку там, у пруда! Когда мясником был я, а ты визжал, как хряк под ножом!..
Торбен Йене Торвен справился с третьей пуговицей. Его ладонь скользнула под сюртук. Отвлекая противника на себя, Огюст рванул из-за пояса наваху. Он даже успел раскрыть ее, заставив громил вздрогнуть от скрежета. А больше не успел ничего. Будь д'Эрбенвиль не банальным подлецом, а дьяволом из глубин ада, или маньяком, рехнувшимся на почве мести, – саблей он в любом случае владел превосходно.
И знал, что делать в первую очередь.
Оставив наваху без внимания, бретер шагнул к датчанину. Клинок лихо свистнул, огнем полыхнув на солнце – и наискось перерубил трость, на которую Торвен опирался всем весом. Хромой «шпион» не удержался на ногах. Он упал на колено, затем – на бок, неловко подвернув руку; телом придавил бесполезные теперь пистолеты и застонал.
– Этого – живым! – приказал д'Эрбенвиль.
И обернулся к Шевалье – сабля опущена к земле, горло открыто.