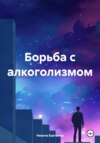Buch lesen: «Книга трипов. Странствия и перемены»
Литературное бюро Натальи Рубановой
На обложке: работа Поля Гогена «Сегодня мы на рынок не пойдем» (Ta Matete), 1892 г.
На обложке: "Ta Matete" Поль Гоген, 1892 г., The Kunstmuseum Basel houses public art collection
Редактор проекта Наталья Рубанова
Верстка и дизайн Марианна Мисюк
Благодарности:
Антон Чурочкин
Ольга Молодцова
Наталья Михайлова
Олег Давыдов
© Глеб Давыдов, 2023
ISBN 978-5-0053-4890-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ОТ АВТОРА
В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.
Шарль Бодлер, «Плаванье»
Луксор, Город мертвых, август 2003 года. Я сидел у входа в гробницу Тутанхамона и не мог прийти в себя. Как я оказался здесь? Давно ли сижу так? Посмотрел на часы. Да… Очевидно, что экскурсионную группу, с которой я прибыл в Город мертвых, увели куда-то в другое место около часа назад, а я просто не мог двигаться дальше. Губы высохли и потрескались, с неба беспощадно палил древнеегипетский бог Ра. Смерть сидела совсем рядом.
Солнечный удар. В тот день меня чудом подобрал кто-то из нашей группы. И хотя организованный туризм сыграл тем самым в мою пользу, именно с тех пор к организованному туризму я питал стойкое отвращение.
После той египетской истории я стал фиксировать то, что случалось со мной во время путешествий: записывать впечатления, хронологию событий, наблюдения, открытия. В тот час между жизнью и смертью (и в последовавшие за ним еще несколько таких же пограничных часов) мне были показаны очень тонкие вещи, которых я раньше не осознавал. И в первую очередь вот что: каждое событие, случающееся с нами во время путешествия, каждая мелкая мгновенно забывающаяся деталь – может нести в себе новое знание, урок, намёк, указатель для дальнейшего движения (а, быть может, для остановки). С тех пор – чтобы не забыть эти вещи и позже при случае возвращаться к ним – я стал записывать все то, что, как мне казалось, составляло в каждой последующей поездке основу того неуловимого вещества, из которого состоял трип. «Трипы» – так я стал назвать эти поездки…
От английского trip. Не travel, а именно trip. Это слово куда богаче. Тут не только путешествия в смысле физических перемещений в пространстве, но нечто более глубокое, метафизическое. Не просто поездки, а именно тонкие уроки и знания: психические перестановки, смещения в точке сборки. То есть «трип» – это термин скорее психологический или мистический, чем географический.
Часто это слово используют для обозначения переживаний, которые испытывает человек под воздействием тех или иных психоделических наркотиков (психоактивных веществ). Однако в моем понимании трип вовсе не обязательно связан с приемом каких-либо веществ или с каким бы то ни было искусственным изменением привычных для ума и тела параметров. С момента первых же моих выездов из России я убедился, что влияние, оказываемое на сознание путешествиями, имеет даже более психоактивный характер, чем воздействие на ум и тело, достигаемое путем использования веществ. И дело тут не в познавательности путешествий и не в отдыхе. А точнее – не столько в них (они вторичны), сколько – в моменте освобождения.
Когда человек уезжает из страны, где родился и долго жил, он освобождается от условностей и традиций этой страны. С ним начинают происходить необычные и чудесные вещи. Освободившись (хотя бы отчасти) от груза своей культурной обусловленности, он все воспринимает иначе, для него открываются иные двери. Человек как бы читает увлекательную и мудрую книгу, которая изменяет его, давая кардинально новые знания о мире и жизни.
Когда я писал тексты, составившие этот сборник, одной из моих задач было зафиксировать эту книгу. И тем самым дать людям вдохновение «создавать ее» дальше. Отрываясь от многовековых условностей своей культуры и тем самым становясь немного свободней. (Я и сам начал путешествовать, побуждаемый сильным импульсом найти выход за пределы приевшейся мне обыденной действительности, о чем подробнее рассказал в нескольких завершающих главах этой книги.)
Трипы, если уж попытаться точно перевести слово на русский язык, это не путешествия, а именно странствия. Потому что этот отрыв от корней способствует, прежде всего, остранению действительности. Человек буквально начинает чувствовать себя странником, стрэнджером (англ. stranger – чужестранец, незнакомец).
И о тех странностях, которые происходили со мной, странником, во время моих трипов-странствий, я и писал все эти рассказы, собранные здесь. Все эти события вызвали во мне перемены, изменили меня. И хотя перемены, спровоцированные случившимися во время моих странствий событиями, носили необратимый характер, со временем память о вызвавших их фактических событиях затиралась, события и связанные с ними переживания уходили в глубину, в подсознание, оставляя на поверхности лишь вызванные ими перемены… Ну и какие-то ничего особенного не значащие бесформенные комья воспоминаний, по которым уже невозможно было восстановить тот путь, проделанный сознанием в процессе перемен. А записывая эти события – как можно скорее после возвращения из каждого трипа – я как бы сохранял для себя возможность отследить этот путь. Эти записи, вслед за самими поездками, я тоже стал именовать «трипами». Публиковались они на сайте Peremeny.Ru в период с 2004-го по 2011 год.
Сейчас, по прошествии двадцати с лишним лет после этих путешествий и записей, я воспринимаю действительность совсем иначе. Во мне, например, нет больше того слегка надменного и циничного отношения к происходящему – этакого юношеского взгляда на мир, при котором кажется, будто ты кое-что знаешь о жизни и людях. Так что многого из того, что здесь зафиксировано, я бы сейчас не сказал. Например, я совершенно иначе теперь вижу Индию и совсем по-другому отношусь к ее людям, чем тогда, в момент написания главы «Письма из Индии». И, возможно, мне стоило бы извиниться перед индийцами за написанное тогда. Однако же тот, кто писал все эти вещи, вряд ли счел бы нужным извиняться, да и его самого уже попросту больше нет. Он безвозвратно растворился в тех сказочных трипах и переменах, которые преподнесла ему реальная жизнь.
2004—2022

Часть первая. Ближний Восток
ИРАН. ТЕГЕРАН
Love’s Secret Domain

После этой поездки мы с Антоном Чурочкиным, фотографом и моим попутчиком в этом трипе, иногда пересекались снова. И всякий раз, будто герои фильма «Кин-дза-дза» (помните, в самом его конце), понимающе кивали, со странной узнающей интонацией называя друг друга по именам, как бы припоминая в этот момент о том опыте, который нам довелось разделить, и желая удостовериться, что имена наши все-таки не изменились.
Я не спал трое суток. Мой мозг на автомате выдавал какие-то отрывочные английские фразы на фоне мелодии «Chaostrophy» с альбома Coil «Love’s Secret Domain»: из прибоя радиопомех выныривают духовые, потом пиццикато струнных, а там уже и весь оркестр захлебывается грустной апокалиптической мелодией…
Только что нас выгнали из отеля, потому что наши визы, как внезапно выяснилось, просрочены. Чуть не падая от усталости, мы бредем по темным улицам Тегерана среди полнейшего религиозного хаоса. Пересекаем ночные пробки и обходим толпы возбужденных людей в черных одеждах. Что это тут такое происходит – непонятно. Непонятно также, что нам теперь делать, где мы будем сегодня спать и будем ли спать вообще – в любом отеле, куда бы мы ни зашли, нас отсылают в полицию за каким-то специальным документом. Идти в полицию совсем не хочется.
Из репродуктора рвется песня-молитва. Отталкиваясь эхом от зданий и смешавшись с выхлопными газами, молитва гулким горячечным маревом плывет над полутемными улицами. Мы идем вдоль большого дворца (вскоре обнаружится вывеска MelliBank). На асфальте у стен дворца разложены одеяла, на них сидят мужчины, женщины, дети – семьи. Они спят, едят и плачут. Маленькая девочка угощает прохожих сладостями. К стенам прикреплены транспаранты, написанные от руки на фарси, и тут же – мелким шрифтом – на ломаном английском. («Аллах любит бедных и людей, которые делают добро». ) От надписей веет неизъяснимым безумием, до просветления истончившимся рассудком. Закусывающие край черной чадры женщины, серьезные мужчины с черными бородами, беспрерывные автомобильные сирены – и надо всем этим летит бесконечная мусульманская молитва.
Мы выходим на какую-то площадь и ловим такси. Таксист говорит по-английски. «Это траур по имаму Али… – объясняет он. – Имам – это духовный лидер. Вот у вас есть Ленин. Он политический лидер. А имам – религиозный лидер в Исламе. Всего их было 12, последний погиб больше тысячи лет назад. А сегодня – третий день траура по первому имаму, по Али. Его убили плохие люди полторы тысячи лет назад», – таксист прерывается, чтобы обругать мотоциклиста (их здесь тысячи, и все они с риском оказаться под колесами безжалостно подрезают нашего таксиста). «Али был очень благочестив, справедлив и щедр к беднякам. Поэтому его очень любят».
В дни траура по имамам тегеранские лавочки и магазины бесплатно кормят бедняков и раздают одежду. Поэтому-то все эти люди и съехались сюда и ночуют теперь у стен одного из главных иранских банков. Молитва, доносящаяся из репродукторов, называется плачем по имаму Али.
«Shit! Oh my God! Crazy!» – не переставая ругаться на сумасшедших персидских коллег, таксист по имени Мортеза привозит нас в квартал очень дешевых отелей и гестхаусов, рядом с железнодорожной станцией. Здесь ночь стоит всего 60 000 риалов (около 5 долларов), никто не заглядывает в паспорта, а на ресепшн сидят люди, скорее похожие на торговцев наркотиками, чем на гостиничных служащих. Единственное условие – заплати заранее. И ночуй, сколько хочешь – будь ты хоть Джордж Буш (он здесь главный национальный враг) … Записав телефон Мортезы, мы идем спать.
Утром мы быстро убрались из смрадной ночлежки, купили хлеба и сока и встали завтракать в тихом переулке, и тут… подъезжает полицейская машина. Легкий взмах пальцев правой руки, направленной ладонью вниз. Этот характерный жест означает «иди сюда». И именно его использовал молодой полицейский перс, выглядывая из своего автомобиля и подзывая нас к себе. Странный, непонятный жест. Для русского он вполне может означать «стой на месте». Но мы уже не первый день в Персии, и поэтому знаем, что к чему…
Парню явно не понравилось, что мы ели на улице днем в Рамадан. Высунувшись из открытого окна машины, он красными глазами смотрел на нас и агрессивно лопотал что-то про документы… Под ногами у него лежал автомат Калашникова. «We don’t speak farsi!» – безапелляционно заявил Чурочкин. «We are just going to the hotel room! Ok?» – добавил я. Сработало. Слово «ОК» оказывает на персов магическое воздействие.
Чудо или удача, но мы быстро нашли недорогой и тихий отель без единой англоязычной вывески. Комната в прямоугольном дворе, напоминающая сараи, которые можно снять в Коктебеле. На удивление приятная. Черноусый хозяин похож на Леонида Филатова и совсем не говорит по-английски, а следовательно не разбирается в визах. Когда мы отсчитали нужную сумму, Филатов наклонил голову (вправо и слегка вперед) и прикрыл глаза. Договорились.
Вечером Мортеза повез нас осматривать достопримечательности. Безбрежный плач по имаму Али неизменным саундтреком проникал везде. Следующая сцена, случившаяся в полутемной дымной чайхане, разыгралась тоже под аккомпанемент плача. В темноте, среди змеевидных трубок кальянов и разноцветных персидских ковров на больших скамьях полулежали люди. Семейный ужин в дымной забегаловке – в порядке вещей. Мы сняли обувь и влезли на одну из лежанок.
К кальяну принесли сладкий чай, финики и специальную сладость под названием «зулубия» – иранцы готовят и едят ее во время Рамадана. На нас смотрит важный и подтянутый усатый военный. Кажется, вот-вот – и он, улыбнувшись, прикажет отрубить мне голову. «Это плохой человек, – вполголоса рассказывает Мортеза. – У него было сто жен. Его имя шах Насреддин». Военный, не меняя выражения лица, в упор смотрит на нас эмалевыми глазами с колбы кальяна.
На самом деле, как я узнал уже гораздо позже, в Москве, этот шах был очень образованным человеком, много путешествовал по Европе (о чем написал несколько книг) и пытался в Персии конца XIX века провести реформы наподобие тех, которые за двести лет до него провел в России Петр I. За что, в конце концов, и поплатился. Персы гораздо более непокорны, чем русские…

Я поднимаю глаза вверх от Насреддина, и внезапно меня накрывает. Все вокруг становится таким же эмалевым и невыносимо терпким – впервые за все время нашего пребывания в Иране я вижу перед собой женщину… Ну то есть я, конечно, и раньше видел здесь женщин, но все они представляли собой бесформенные черные пятна, закутанные в чадру и не удостаивающие никого своим взглядом. А тут… В чайхану вошли трое молодых модно одетых иранских парней, а с ними – девушка. На ней нет чадры, голова почти полностью открыта. Светлые свободные штаны, кроссовки и черное платье. На переносице – маленький белый пластырь (среди персов распространены пластические операции по изменению формы носа).
Я в плену. Казнь не отменили.
Я пытаюсь придти в себя от внезапного культурно-эротического шока, а в это время Мортеза рассказывает кое-что о себе. Несколько лет назад он работал на немецкую туристическую компанию. Возил немцев по Ирану, показывал им достопримечательности. Потом бизнес закрылся, и он вынужден был стать таксистом. «Однажды даже мое стихотворение опубликовали в немецком журнале, – с гордостью продолжал Мортеза. – Дай-ка мне свой блокнот, я сейчас напишу тебе стихотворение! Я сделал его двадцать лет назад!»
Она смотрела мне в глаза. Одновременно сквозь меня и внутрь меня… Глубокий взгляд. Шах Насреддин будто специально подослал ее. Я чувствовал, что падаю куда-то высоко в бездну, в звучащую бездну, из которой доносился плач по имаму Али. Мортеза протянул мне блокнот:
Oh my God: look at me
How easy I am getting old
I am very sad
Thousand of Years
Even I can not have alone
In the flying roads
I have a good place
I must take a flame
Of light to fly to the sun
To stay there
To burn to die
И подпись: Morteza Tari.
Вот мой перевод на русский:
О мой Бог, посмотри на меня!
Как легко я старею,
И как мне от этого грустно…
Хотя бы тысячу лет,
И тех не дано мне прожить.
Но в этих парящих дорогах
Одно есть хорошее место,
Мне нужно немного пламени света,
Чтобы суметь долететь до солнца
И навсегда там остаться,
Сгореть дотла.
Мортеза смотрел на меня с каким-то пингвиньим добродушием и отогревал мое обледеневшее под взглядом персиянки сердце. У Мортезы особенный взгляд – зрачки-точки в зеленых близоруких глазах. «Саади…» – почему-то подумал я, глядя в эти глаза. Впрочем, в стране, где поэтам поклонялись как богам, живущим среди людей, встретить именно поэта было не слишком удивительно.

Он заговорил:
– Это стихотворение отражает мою сущность. Если хочешь узнать меня, понять, то пойми это стихотворение. Что-то ты все оглядываешься?!
– Кто эта женщина? Она совсем не похожа на других женщин, которых я видел в Иране!
– Это шлюха! Я не люблю такой тип людей. Они думают только о сексе. Пойми, я не считаю, что секс – это плохо, я не против плотских наслаждений, но… секс – это часть жизни, а не вся жизнь! А для этих людей тело – это главное и единственное. Они молоды и совсем не чуткие. Например, они никогда бы не поняли это стихотворение, а ты – поймешь, я это чувствую. Они не плохие, но это не наши люди.
Я спрашиваю Мортезу, почему он перестал писать стихи.
– Нужны моменты одиночества, когда твой мозг погружается в какое-то странное состояние, переживает специальный опыт, не имеющий ничего общего с повседневностью. Если ты очень много думаешь о деньгах, о быте, о том, как прокормить семью, такие моменты посещают тебя все реже и реже. Так случилось и со мной. Я просто перестал чувствовать это.
Плач по имаму оборвался.
В наш последний день в Тегеране я уговорил Мортезу перевести на английский еще одно из написанных им стихотворений.
There’s no trace else of what I was before
I’m worrying from inside
My heart has been broken down
I’m disabled and tired man
Just now take my hands
Otherwise just now my hands
Fall down.
Take my hands
For the God’s sake
Take my hands
Take my hands
Take my hands
Нет и следа того, чем был я раньше
Внутри меня одно лишь беспокойство
И сердце разбито мое совершенно
Я стар и ни на что уже больше не годен
Просто возьми сейчас мои руки
Иначе сейчас они упадут
Возьми мои руки
Возьми ради Бога
Возьми мои руки
Возьми мои руки
Возьми мои руки
Начало ноября. С деревьев падали на землю первые желтые листья. В Тегеране медленно наступала осень. Было ли это посвящением? Передачей традиции? Может быть, предупреждением? Или просто старый тегеранский таксист впал в слишком сентиментальное состояние духа? Неважно. Какая разница… Я чувствовал, что встретил настоящего поэта.
По радио в такси тихо играла «Лунная соната».
Здание мечети, надписи на фарси над бесчисленными лавочками и магазинами… и Бетховен, сыгранный без единого намека на европейскую чувственность, с поистине лунным, восточным, почти механическим спокойствием… Из приемника лилась «Лунная соната», а в уставшей от бессонницы моей голове, покачивающейся на сиденье в такт движению авто, сквозь радиопомехи изгибалась мелодия Coil с альбома «Love’s Secret Domain».
Я думал о глазах девушки с пластырем. О времени, о ненависти персов к Америке, об имаме Али. О несексуальности Ирана, благодаря которой, однако, мне была возвращена способность видеть в женщине тайну. О глубине, о том, как в последний раз мы курили кальян с Мортезой и привлекали внимание посетителей чайханы тем, что разговаривали на несуществующем, на ходу изобретаемом языке (поэтическая игра, придуманная Мортезой, в которой главное – звуки и интонации). «Если нас спросят, на каком языке мы разговариваем, давай ответим, что мы с Луны и что это лунный язык», – предложил он… Этой ночью мы улетали на луну. В Love’s Secret Domain.
Осень 2004 г.Фото: Антон Чурочкин
СИРИЯ. ДАМАСК
Молитва дервиша

Каждая стена, каждое окно в деревянных вагончиках-надстройках над первыми этажами, каждый случайный прохожий – все в Дамаске провоцирует ожидание чуда. На этих улицах постоянно совершается невидимая мистическая работа, происходят прозрения и отворяются двери… В этом городе все люди – абсолютно все – регулярно молятся. Один из старейших городов мира (первые упоминания – 2500 г. до н.э.), он до сих пор остается мощным метафизическим хабом.
На огромном ковре напротив гробницы Иоанна Крестителя тихо поют семеро пожилых арабов. В заплаканных покрасневших глазницах перекатываются голубоватые бельма. Одежда неяркая, неряшливая: длиннополые серые рубахи, красно-коричневые фески, белые шарфы вокруг шеи.
Расположившись шеренгой на расстоянии двух метров друг от друга, арабы монотонно раскачивались из стороны в сторону, напевали молитвы и перебирали четки. Один из стариков показался мне особенно примечательным. Вся его фигура сильно выделялась из числа остальных, в ней была какая-то аристократическая статность. Усевшись на ковер неподалеку, я в упор уставился на него, пытаясь установить с ним контакт. Чтобы проверить, действительно ли он слепой, а если слепой, то на самом ли деле такой уж чувствительный старец, какового изображает… Через минуту старик, совсем как кошка, услышавшая внезапный шум, вытянул голову и стал приподнимать брови, как бы пытаясь что-то поймать ими в воздухе. Он явно ощущал мое присутствие.
К нему подсела женщина, склонила голову. Возложив на нее правую руку и подняв лицо к потолку, старик запел. Песня была не длинная, всего несколько тактов и несколько арабских слов – грустных и не привлекающих внимания.
Через пару минут женщина встала, сунула в руку старика несколько монет и побрела в сторону выхода. Старик спрятал мелочь в карман и стал что-то тихо напевать-приговаривать.
Чья-то рука тронула меня за плечо.
Надо мной стоял некто. Я уже видел его, когда вошел в мечеть (он сидел в пластмассовом кресле позади стариков). «Дервиши», – произнес он, кивком головы указывая на слепых.
«Некто» этот был кем-то вроде менеджера дервишей: считал деньги и приносил им фалафель (завернутое в лаваш жареное фасолевое тесто с крупно нарезанными свежими огурцами, помидорами и зеленью). Он же находил дервишам клиентов. Собственно, вот я и стал одним из них. Дервиш, тот самый, за которым я наблюдал, положил мне на голову свою холодную, как гробовая плита, руку, и заговорил…
…К тому моменту я странствовал по Сирии уже две недели. И Сирия меня сильно расстраивала. Разочаровывала и даже угнетала. Во всем виделось сплошное надувательство.
Во-первых: когда мы прилетели из Москвы в Дамаск, был сентябрь, но вместо ожидаемого теплого бабьего лета нас встретил в аэропорту торопливый проливной дождь и до костей пронизывающий ветер. Весь этот первый день мы долго бродили по мокрым серым улицам в поисках приличного отеля. Любовались грязными забегаловками и убогими лавчонками (по доллару за штуку там продавались шапки с логотипом Nike). И ели подозрительную, хотя и вкусную шаурму. А на следующий день, предварительно проверив в интернете, где в Сирии сейчас хорошая погода, мы сбежали из Дамаска в Пальмиру…
И все время, пока мы колесили по стране, нас пытались обмануть – то торговцы, то таксисты, то хозяева отелей.
Дамаск. Уличная лавочка с сумками и зонтами. Откуда-то из-за угла мгновенно выскакивает продавец и принимается рьяно демонстрировать мне достоинства зонта, которым я заинтересовался. Превращает зонт в трость, изображает Чарли Чаплина, очень старается.
– Сколько? – спросил я по-английски.
– 500 сирийских лир, – ответил он.
Зонтик был неплохой, но явно не стоил десяти долларов. Прочитав мои мысли, продавец сказал:
– Ок, 300.
– М-м-м…
– Where are you from?
– Russia.
– Oh! Russia – good! I love Russia!!! Only for you – 250.
– Ok, may be later… – я повернулся уходить.
– Ok – 200.
Вернувшись, достаю из бумажника 150 лир и протягиваю их сирийцу.
– 150 – ok?
Он вдруг становится очень серьезен, резко кивает мне и делает жест рукой, означающий, очевидно, что-то вроде «Нет, иди отсюда!».
– No? – удивился я.
– No! – сириец обиженно кивнул, быстро прикрыв глаза и приподняв голову, как бы давая мне понять, чтобы я убирался. – Очень плохо! – по-русски добавил он.
Через десять минут в другой лавке я купил зонт за 100 лир.
Вся эта ближневосточная лживость превратилась в нескончаемый рок, преследовавший нас до самого того момента, когда мы вернулись в Дамаск, чтобы провести там оставшееся до вылета в Москву время. Всего два дня. Вдобавок я сильно заболел гриппом, и так бы вся эта поездка по Сирии осталась одним сплошным темным пятном, если бы за эти два дня в Дамаске не случилось два события, напрочь перечеркнувших все плохие впечатления.

Вот Сук Аль-Хаммидия – старинный восточный базар, крытый рынок, вокруг которого, как лаваш на шаурму, наворачивается все самое интересное в городе. Длинный широкий коридор освещен электрическим светом. Вместо стен – сплошные ряды лавочек и магазинов. Шелка, золото, чайники, шали, кальяны, орехи. Мясные туши, ткани, снова ткани, сладости, драгоценности, игрушки. Продавцы неизменно называют двойную цену. Под ногами мельтешат ослы и оборванные дети. Со всех сторон – крики, суета, сутолока. В глазах рябит от фейерверка разноцветных одежд. Арабы на разные голоса торгуются друг с другом и с чужеземцами. Мандарины, четки, блюдца, подносы. Концентрат пестроты востока. Здесь в очередной раз за эту недолгую поездку я начинаю чувствовать себя богатым заморским купцом в сказочном тридесятом царстве… «Two dollars! Ok, one!» – окрикивают меня продавцы на всех языках мира, пока я невозмутимо шествую по широкой, закрытой полукруглым сводчатым потолком улице этого древнейшего в мире рынка… И тут …все застывает на месте в абсолютной тишине.
Суета рыночной кишки выплюнула меня на небольшую площадь с колоннадой и аркой. За аркой – прямоугольный двор, обрамленный портиками. Ни звука вокруг… Сумерки.
«Кто-то большой остановил внутренний диалог» – такая стояла здесь тишина. Тишина эта будто имела свое собственное сознание, и сознание это было чистым и великим.
Это двор легендарной мечети Омейядов. Высоченные колонны неподвижно подпирают своды коридоров. В аркадах мерцают светильники. Персонажи на мозаиках начинают оживать. В сумерках, по крайней мере, создается такое впечатление, что они еле-еле движутся, пытаясь сойти со своих мест.
Этот мир явно гораздо старше любого из миров, в которых мне доводилось бывать до сих пор…
В течение тысячелетий здесь взывали к Богу в самых разных его обличиях и под разными его именами. В XII веке до н.э. арамеи молились Хададу, потом римляне воздвигли храм Юпитера, который в византийские времена был преобразован в христианский храм, посвященный пророку Захарии.
В 661 году Дамаск стал столицей халифата Омейядов. Храм поделили напополам мусульмане и православные (в центре основного зала мечети до сих пор стоит гробница с головой Иоанна Крестителя, которого мусульмане почитают как пророка Яхья). В 705 г. халиф Валид принял решение целиком отдать храм мусульманам.
Кроме головы Иоанна, здесь хранятся мощи еще двух святых, исламских. Один из них – имам Хусейн, которого шииты считают наследником Магомета и почитают наравне с Пророком. Другой – культовый арабский полководец Саладдин.
…Вот в таком месте я вдруг оказался, когда в сумерки, в восемь вечера восточный базар Сук Аль-Хамидия, наконец, отрыгнул меня из своего голодного чрева. Привратник мечети Омейядов готовился уже закрыть вход, поэтому я только и успел быстро пересечь пустой полутемный двор и выйти в противоположном его конце. Но дал себе обещание вернуться сюда завтра днем.
В отеле с нашего этажа видна сверкающая в темноте знаменитая гора Кассиун, на которой Каин убил Авеля. Гора наполовину застроена разрастающимся Дамаском, и каждый вечер огни домов, построенных на горе, блестят и переливаются, как драгоценные камни на гигантском браслете… Точь-в-точь как на браслетах, только что купленных мной на рынке, только больше…
Уже утром я снова был в мечети Омейядов. Мраморный пол двора блестит на солнце, будто как ледяной каток. По мусульманскому закону мне приходится разуться, и, шагая по мрамору, я чувствую, что он и в самом деле холоден, как лед. А поскольку, напомню, я был болен, меня это, конечно же, беспокоит, и я спешу войти внутрь мечети, потому что там ковры, по которым босиком ходить не так холодно.
Разноцветные витражи, позолоченные перегородки. Купол, аркады, полумрак. Люди молятся, фотографируются, спят. Иные перешептываются, полулежа на коврах. Кто-то читает книгу…
Напротив гробницы Иоанна Крестителя на подушках сидят слепые старцы с четками в руках. К ним периодически подходят прихожане, и старцы накладывают на них руки. Я начинаю наблюдать…
«Менеджер» сообщает мне, что это дервиши. Если в двух словах, это такие странствующие мусульманские монахи, отказавшиеся от всего земного во имя всего высшего, и с помощью разных самоотверженных практик достигающие состояния особой близости к богу. Делают они это часто совсем неортодоксальными способами (за что в Исламе к ним относятся неоднозначно). Например – путем странных манипуляций со своим физическим телом. Более всего в мире известны вертящиеся дервиши ордена мевлеви, которые впадают в транс и встречаются с богом посредством специального танца-кружения на одном месте: они кружатся до полного изнеможения, а затем падают навзничь, и тут с ними происходит самое важное. Но слышал я также и о дервишах, достигающих Абсолюта более изощренными способами. Например, некоторые из них танцуют на горящих углях, а потом засовывают эти угли себе в рот и разжевывают их. Есть еще и такие, которые безбоязненно обматывают свои обнаженные тела большими змеями. Дервиши же, встреченные мной мечети Омейядов, принадлежали, как я понял, к секте «плачущих дервишей». То есть таких, которые при помощи постоянного чтения молитв в сочетании с долгими рыданиями достигают полной физической слепоты, но зато прозревают духовно, достигая таким образом нужной степени самоотрешения, цель которого все та же – приблизиться к богу, или, точнее, ощутить бога внутри себя.
«Менеджер» подвел меня к одному из них (тому, за которым я наблюдал, пытаясь наладить с ним контакт). Вытянутое прямоугольное лицо, большие грустные бельма и… я ожидал, что, оказавшись рядом с ним, почувствую что-то вроде сильного энергетического поля, какое-нибудь тепло, как это часто бывает, когда общаешься с людьми, духовно продвинутыми, – но ничего подобного не было: от него не исходило абсолютно никакой энергии, а рука, которую он как-то безвольно опустил мне на голову, оказалась настолько холодна, что это было даже неприятно. Она была как гробовая плита, внезапно прикрывшая мою макушку…
Дервиш молился, а я сидел, опустив голову, и вслушивался, не ощущая от этой молитвы ничего особенного и не понимая в ней ни слова. В какой-то момент я понял, что от меня требуется повторить за ним троекратное «Аллах Акбар», что и сделал. Затем нужно было повторить еще что-то, но я не понимал значения слов и смог только тихим мычанием подражать интонации дервиша. И вдруг, неожиданно для самого себя я глубоко вздохнул. И в этот момент дервиш сразу же прекратил молитву.
О том, что нужно будет обязательно что-то дать, я знал, но то, что это будет какая-то фиксированная плата, было для меня новостью. Обычно в таких случаях дают столько, сколько считают нужным – если только плата не фиксирована заранее. Но «менеджер» требовал за молитву дервиша 50 лир. Сущие копейки, но… меня возмутила настойчивость, с которой подрядчик требовал именно эту сумму, хотя мы с ним ни о чем не договаривались, и я уже отдал ему всю имевшуюся в моем кармане мелочь. «Сирийцы рвачи – даже в делах духовных», – решил я и… изобразил рукой жест, означавший, что больше дать не могу. Мужчина пытался возражать. Но я еще раз решительно сказал: «Нет». Уходя, я заметил, как мужчина положил мою мелочь в руку дервиша и что-то ему сказал. Старик стал оглядываться вокруг своими бельмами! Он был удивлен…
Какая-то женщина подходила ко всем и раздавала орехи в йогурте. Я съел орешек и в этот момент вдруг почувствовал, что мое горло больше не болит.