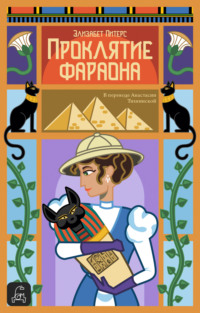Buch lesen: "Проклятие фараона", Seite 3
Глава 2
Его слова поразили меня с почти сверхъестественной силой. Когда я увидела эту неожиданную гостью, о которой только что думала и говорила (надо сказать, совсем не лестно), мне показалось, что передо мной не живая женщина, а видение, плод затуманенного рассудка.
Должна признаться, многие бы и в самом деле приняли ее за видение – видение воплощенной красоты, позирующей для портрета горя. От макушки до кончиков крошечных туфелек она была облачена исключительно в черное. Ума не приложу, как, невзирая на погоду, ей удалось не запачкать свое одеяние, но на ее блестящих шелковых юбках и прозрачных накидках не было ни единого пятнышка. Сверху донизу ее платье было густо расшито черными бусинами; тускло поблескивая, они спускались от лифа и прятались в складках пышной юбки. Вуали почти достигали пола. Она отбросила ту, что закрывала ей лицо, и его бледный овал предстал перед нами, обрамленный облаком прозрачных складок. Высоко очерченные брови над черными глазами придавали ей бесхитростно-удивленный вид. На щеках не было ни кровинки, что особенно контрастировало с ярко-алыми губами – в этом было что-то необычайно пугающее, отчего на ум приходили демонически прекрасные ламии и вампиры из легенд.
Надо сказать, что этим мыслям сопутствовали и другие – о моем грязном неприглядном платье и о том, заглушает аромат виски запах заплесневелой кости или наоборот. И, хотя меня нелегко смутить, мне все же сделалось неловко. Я поняла, что пытаюсь спрятать наполовину полный бокал виски за диванной подушкой. Могло показаться, что наше изумление – Эмерсон, как и я, застыл в остолбенении – длилось целую вечность, но думаю, прошло не больше пары секунд, прежде чем я пришла в себя. Я встала, поприветствовала нашу гостью, отпустила Уилкинса, предложила ей стул и чашку чая. Дама приняла мое приглашение сесть, но от чая отказалась. Затем я принесла ей свои соболезнования в связи с недавней утратой, добавив, что смерть сэра Генри – большая потеря для науки.
Мое замечание вывело Эмерсона из оцепенения, на что я и рассчитывала, хотя, как ни странно, в кои-то веки он проявил несвойственную себе деликатность и удержался от нелестного комментария в адрес сэра Генри относительно его некомпетентности в вопросах египтологии. Эмерсон придерживался мнения, что ничто, даже сама смерть, не может оправдать недостаток образованности.
И все же ему не хватило такта, чтобы согласиться с моим комплиментом или добавить несколько слов от себя.
– Э-э… Гм-м, – сказал он. – Весьма печально. Мои соболезнования. Так куда запропастился Армадейл, прах его возьми?
– Эмерсон, – воскликнула я, – сейчас не время…
– Прошу вас, не извиняйтесь. – Дама подняла изящную белую руку, украшенную огромным траурным кольцом, свитым, надо полагать, из волос покойного сэра Генри. С очаровательной улыбкой она обратилась к моему мужу: – Я слишком хорошо знаю доброе сердце Рэдклиффа, чтобы обращать внимание на его резкие манеры.
Надо же, Рэдклифф! Я терпеть не могла имя мужа, и мне казалось, что тот разделяет мои чувства. Но, вместо того чтобы выразить неодобрение, он, как школьник, расплылся в глупой улыбке.
– Не знала, что вы знакомы, – сказала я, наконец пристроив свой бокал за вазой с сухими цветами.
– О да, – сказала леди Баскервиль; Эмерсон продолжал взирать на нее с идиотской улыбкой. – Мы не виделись несколько лет, но когда-то, в дни пылкой юности, когда нас обуревали страсти, – я хочу сказать, страсть к истории Древнего Египта, – мы были весьма дружны. Я тогда только обручилась. Возможно, я была слишком молода для замужества, но мой дорогой Генри совершенно меня покорил.
Она промокнула глаза платком с черной каймой.
– Полно, полно, – сказал Эмерсон тоном, каким он порой говорил с Рамсесом. – Не падайте духом. Время поможет вам справиться с горем.
И это говорил человек, который сворачивался как еж, когда ему приходилось, как он говорил, «выходить в общество», и который ни разу в жизни не произнес ни одной светской любезности! Эмерсон придвинулся к ней ближе. Еще мгновение, и он участливо похлопает ее по плечу.
– Истинно так, – сказала я. – Леди Баскервиль, сдается, вы очень устали, да и погода оставляет желать лучшего. Я надеюсь, вы не откажетесь поужинать с нами? Совсем скоро подадут ужин.
– Благодарю вас. – Леди Баскервиль отняла платок от лица – мне он показался совершенно сухим – и улыбнулась, обнажив зубы. – Я не смею злоупотреблять вашим гостеприимством. Я остановилась поблизости, у друзей, и они будут ждать меня к ужину. Поистине, я не пришла бы без приглашения, нарушив все приличия, если бы мне не нужно было так срочно поговорить с вами. Я здесь по делу.
– Поистине, – сказала я.
– Поистине, – эхом отозвался Эмерсон, и в его голосе прозвучала вопросительная интонация; хотя я уже знала, что привело сюда нашу гостью. Эмерсон называет это поспешными выводами, я – простой логикой.
– Да, – сказала леди Баскервиль. – И я немедленно перейду к самой сути, чтобы не отрывать вас от домашних дел. Из вашего вопроса о бедном Алане я поняла, что вы au courant1 относительно ситуации в Луксоре?
– Мы с интересом следим за развитием событий.
– Мы? – Блестящие черные глаза обратились ко мне с выражением, исполненным любопытства. – Ах да, кажется, я слышала, что миссис Эмерсон интересуется археологией. Тем лучше. Тогда мой рассказ не утомит ее.
Я извлекла бокал с виски из-за вазы.
– Ни в коем случае, – сказала я.
– Вы слишком добры ко мне. Возвращаясь к твоему вопросу, Рэдклифф: бедный Алан исчез без следа. Вся эта история окутана мрачной тайной. Я не могу думать о ней без содрогания.
Снова показался изящный платок. Эмерсон снова закудахтал. Я ничего не сказала и продолжала пить виски молча, как и подобает настоящей леди.
Наконец, леди Баскервиль возобновила свой рассказ.
– Я бессильна разгадать тайну исчезновения Алана, но надеюсь справиться с другим делом, которое может показаться незначительным в сравнении с человеческой жизнью. Однако оно представляло огромную важность для моего бедного покойного мужа. Гробница, Рэдклифф! Гробница!
Наклонившись вперед, она сжала руки. Губы ее были полуоткрыты, грудь вздымалась; она пронзила Эмерсона пристальным взглядом своих черных глаз, а тот смотрел на нее как зачарованный.
– Да, вы правы, – сказала я. – Гробница. Насколько нам известно, леди Баскервиль, работы остановились. И вы опасаетесь, что рано или поздно захоронение будет разграблено и все усилия вашего мужа окажутся напрасными.
– Совершенно верно! – Теперь леди обратила свои сжатые руки, губы, грудь и все остальное в мою сторону. – Я преклоняюсь перед вашим по-мужски логическим складом ума, миссис Эмерсон. Именно это я и пыталась столь путано объяснить.
– Я так и поняла, – сказала я. – И что вы хотите от моего мужа?
Тут леди Баскервиль ничего не оставалось, как перейти к сути вопроса. Бог знает, сколько бы времени ей потребовалось, будь у нее возможность беспрепятственно продолжать свою болтовню.
– Я хочу, чтобы он возглавил раскопки, – сказала она. – Работы нужно продолжить, и немедленно. Я искренне убеждена, что мой дорогой Генри не сможет спать спокойно, пока его труд – возможно, вершина его профессиональной деятельности – находится под угрозой. Это будет достойным памятником одному из лучших…
– Да-да, вы говорили об этом в интервью «Йелл», – перебила я. – Но почему вы приехали к нам? Разве в Египте не найдется ученого, который мог бы взяться за эту задачу?
– Но я выбрала вас! – воскликнула она. – Уверена, что Генри, как и я, в первую очередь обратился бы именно к Рэдклиффу.
Леди Баскервиль не попалась в мою ловушку. Эмерсон пришел бы в страшную ярость, признайся она, что он – ее последняя надежда. И она была безусловно права: Эмерсон – лучший специалист в своей области.
– Что думаешь, Эмерсон? – спросила я.
Признаюсь, в ожидании ответа сердце мое забилось быстрее. Меня одолевали самые разные чувства. Думаю, вы догадались, какого мнения я была о леди Баскервиль, и мысль о том, что мой муж проведет остаток зимы в ее обществе, меня совсем не привлекала. Но, наблюдая каждый вечер за его страданиями, я понимала, что не смогу встать у него на пути, если он изъявит желание принять ее предложение.
Эмерсон встал и пристально посмотрел на леди Баскервиль. Его чувства явственно читались у него на лице. Он был похож на узника, которого внезапно помиловали после долгих лет заточения. Затем его плечи обмякли.
– Это невозможно, – произнес он.
– Но почему? – спросила леди Баскервиль. – В завещании моего дорогого мужа оговорена отдельная сумма на завершение любых работ, которые были начаты на момент его кончины. Все члены экспедиции, за исключением Алана, по-прежнему находятся в Луксоре и готовы продолжать. Правда, должна сказать, рабочие проявили удивительную несговорчивость и не хотят возвращаться в гробницу; но что возьмешь с этих суеверных созданий…
– Дело не в этом, – сказал Эмерсон, махнув рукой. – Нет, леди Баскервиль, дело не в Египте. У нас маленький ребенок. Было бы слишком рискованно взять его с собой в Луксор.
Наступила тишина. Высоко очерченные брови леди Баскервиль поднялись еще выше; на лице ее читался вопрос, который она, будучи слишком хорошо воспитана, не осмеливалась произнести вслух. В самом деле, на первый взгляд причина его отказа могла показаться совершенно незначительной. Большинство мужчин, получив подобное предложение, без колебаний избавились бы от полдюжины жен и детей, чтобы принять его. Возможно, именно потому, что эта мысль даже не пришла Эмерсону в голову, я набралась решимости совершить самый благородный поступок в моей жизни.
– Не беспокойся, Эмерсон, – сказала я и, откашлявшись, продолжила с твердостью, которая, если позволите, делала мне бесспорную честь: – У нас с Рамсесом все будет прекрасно. Мы будем писать тебе каждый день…
– Писать! – Эмерсон резко обернулся; синие глаза пылали, лоб пересекли глубокие складки. Случайный наблюдатель подумал бы, что он в ярости. – Что ты такое говоришь? Ты же знаешь, что я никуда без вас не поеду.
– Но ведь… – начала я с замирающим сердцем.
– Не говори глупостей, Пибоди. Это не обсуждается.
Если бы в этот момент я не испытывала глубокое удовлетворение по другим причинам, одного взгляда на лицо леди Баскервиль было бы достаточно, чтобы возрадоваться. Ответ Эмерсона застал ее врасплох, и я почувствовала истинное удовольствие от того, с каким удивлением она изучала меня в попытках найти хоть малейшие признаки привлекательности, из-за которых мужчине трудно со мной расстаться.
Она пришла в себя и с некоторым колебанием сказала:
– Если вы опасаетесь, что ребенку не предоставят достойный уход…
– Нет-нет, – сказал Эмерсон, – дело совсем не в этом. Мне очень жаль, леди Баскервиль. Что вы думаете о Питри?
– О, это ужасный человек! – Леди Баскервиль содрогнулась. – Генри не выносил его: такой грубый, самонадеянный, вульгарный.
– Тогда Навиль.
– Генри был очень невысокого мнения о его способностях. Кроме того, насколько я знаю, он связан обязательствами с Фондом исследования Египта.
Эмерсон предложил еще несколько кандидатов. Все были отвергнуты. Однако леди не уходила, и я попыталась предугадать ее очередной маневр. Я надеялась, что она сделает следующий шаг или уйдет; я была страшно голодна, так как за чаем у меня совершенно пропал аппетит.
И снова мой несносный, но небесполезный ребенок спас меня от нежеланной гостьи. Каждый вечер мы неизменно приходили к Рамсесу пожелать ему спокойной ночи. Эмерсон читал ему, у меня были свои обязанности. Мы опаздывали, а терпение не относилось к числу очевидных добродетелей Рамсеса. Он решил, что прождал нас достаточно, и решил отправиться на поиски. Не знаю, как на сей раз ему удалось ускользнуть от няни и прочих слуг, – в этом искусстве он достиг несравненных высот. Дверь гостиной распахнулась с такой силой, что казалось, на пороге возникнет фигура геркулесовых пропорций. Однако Рамсес в белой ночной рубашечке, с влажными кудрями, обрамляющими сияющее лицо, произвел не менее сильное впечатление. Не ребенок, а сущий ангел – ему не хватало лишь крыльев для полного сходства со смуглыми херувимами Рафаэля.
Обеими руками Рамсес прижимал к щуплой груди большую папку. Это была рукопись «Истории Египта». Как обычно, он был сосредоточен на своей главной задаче, поэтому лишь скользнул по гостье взглядом, прежде чем направиться к отцу.
– Ты обесял мне пофитать, – сказал он.
– Да-да, конечно. – Эмерсон забрал у него папку. – Я скоро приду, Рамсес. Возвращайся к няне.
– Нет, – спокойно сказал Рамсес.
– Что за ангелочек! – воскликнула леди Баскервиль.
Я намеревалась было возразить и заменить эту характеристику другой, более точной, как вдруг Рамсес сказал сладким голоском:
– А вы холофенькая.
Леди Баскервиль покраснела и заулыбалась. Она ведь не знала, что этот, на первый взгляд, очевидный комплимент – на самом деле не что иное, как простая констатация факта, и никоим образом не является выражением одобрения или неодобрения Рамсеса. Заметив, что сын чуточку выпятил нижнюю губу и назвал гостью «хорошенькой», а не «красивой» (разницу между этими характеристиками Рамсес понимал прекрасно), я начала подозревать, что с редкой проницательностью, столь удивительной для ребенка его возраста (это качество он унаследовал от меня), он не вполне доверял леди Баскервиль, и, если направить разговор в нужное русло, он заявит об этом с присущей ему прямотой.
К сожалению, прежде чем я успела выбрать подходящий момент, его отец снова велел ему вернуться к няне, и Рамсес с холодной расчетливостью – столь неотъемлемой чертой его характера – решил использовать нашу гостью в личных целях. Подбежав к ней, он сунул палец в рот (от этой привычки я отучила его уже в раннем возрасте) и пристально посмотрел ей в глаза.
– Офень холофенькая леди. Ламсес останется с тобой.
– Гнусный лицемер, – сказала я. – Поди прочь.
– Прелестный ребенок, – замурлыкала леди Баскервиль. – Малыш, хорошенькой леди нужно уходить. Она бы осталась, но ей пора. Поцелуй-ка меня на прощанье.
Она не попыталась взять его на колени, а наклонилась и подставила гладкую белую щеку.
Рамсес с нескрываемым раздражением – ведь ему не удалось освободиться от необходимости вернуться в постель – громко поцеловал ее, оставив влажный отпечаток на гладком слое перламутровой пудры.
– Я пойду, – заявил Рамсес, всем своим видом излучая оскорбленное достоинство. – Я зду тебя, папа. И тебя, мама. Отдай мою книгу.
Эмерсон покорно вернул рукопись, и Рамсес удалился. Леди Баскервиль встала.
– Мне тоже пора, – сказала она с улыбкой. – Примите мои глубочайшие извинения за беспокойство.
– Ну что вы, что вы, – сказал Эмерсон. – Жаль, что я не смог быть вам полезным.
– Мне тоже очень жаль. Но теперь я понимаю причину твоего отказа. Познакомившись с твоим прелестным ребенком и очаровательной женой… – Она наградила меня улыбкой, я ответила тем же. – Я вижу, почему мужчина, ведущий такую приятную семейную жизнь, не хочет променять ее на опасности и неудобства Египта. Мой милый Рэдклифф, ты стал настоящим домоседом. Это прекрасно! Образцовый семьянин! Я рада, что ты наконец остепенился после бурных лет холостяцкой жизни. Я ни в коем случае не осуждаю тебя. Конечно, никто из нас не верит в проклятия и всякие россказни, но в Луксоре и правда творится что-то странное, и только бесстрашный, отважный, свободный духом человек готов подвергнуть себя подобной опасности. Прощай, Рэдклифф. Миссис Эмерсон, чрезвычайно рада была познакомиться с вами. Нет, прошу, не провожайте меня. Я и так вас обеспокоила.
Перемена, произошедшая с ней во время этой речи, была удивительна. Мягкий, журчащий голос зазвучал резко и уверенно. Не переводя дух, она выстреливала чеканные фразы, словно пули. Лицо Эмерсона залилось краской, он пытался вставить хоть слово, но безуспешно. Леди выскользнула из комнаты в окружении черных накидок, которые походили на грозовое облако.
– Черт возьми! – сказал Эмерсон и топнул ногой.
– Она держалась очень грубо, – согласилась я.
– Грубо? Напротив, она старалась изложить неприятные факты как можно деликатней. «Образцовый семьянин»! «Наконец остепенился»! Боже мой!
– И ты решил говорить как мужчина, – раздраженно сказала я.
– Удивительно! Ведь я не мужчина, а замшелый домосед, лишенный решимости и отваги…
– Ты реагируешь именно так, как она и рассчитывала! – воскликнула я. – Неужели ты не видишь, как злонамеренно каждое ее слово? Еще бы намекнула, что…
– Что я держусь за дамскую юбку. Правда, истинная правда. Она удержалась из вежливости.
– Ах, стало быть, ты так думаешь?
– Конечно нет, – сказал Эмерсон с непоследовательностью, которую мужчины обнаруживают в ходе спора. – Хотя ты и пытаешься…
– А ты пытаешься притеснять меня. Если бы не мой сильный характер…
Дверь гостиной отворилась.
– Ужин подан, – сказал Уилкинс.
– Попросите кухарку задержаться на пятнадцать минут, – сказала я. – Мы должны пожелать Рамсесу спокойной ночи, Эмерсон.
– Да-да. Я почитаю ему, а ты пока переоденешь это отвратительное платье. Я отказываюсь ужинать с женщиной, которая выглядит как английская матрона и источает ароматы компостной ямы. Как тебе не стыдно говорить, что я тебя притесняю?
– Я сказала, что ты пытаешься. Ни тебе, ни какому другому мужчине это никогда не удастся.
Уилкинс отступил, чтобы дать нам пройти.
– Благодарю вас, Уилкинс, – сказала я.
– К вашим услугам, мадам.
– Что касается дамской юбки…
– Простите, мадам?
– Я обращалась к профессору Эмерсону.
– Да, мадам.
– Про дамскую юбку говорил я, – огрызнулся Эмерсон, пропустив меня по лестнице вперед. – И я от своих слов не отказываюсь.
– Тогда почему бы тебе не принять предложение леди Баскервиль? Я вижу, ты прямо-таки сгораешь от нетерпения. Какие чудесные вечера ждут вас в Египте при ласковом свете луны…
– Не говори глупостей, Амелия. Бедняжка не вернется в Луксор – с этим местом у нее связаны слишком тяжелые воспоминания.
– Ха! – Я резко рассмеялась. – Наивность мужчин не устает меня поражать. Конечно же, она вернется. Тем более если там будешь ты.
– Я не собираюсь никуда ехать.
– Тебя никто не удерживает.
Мы поднялись на второй этаж. Эмерсон повернул направо в сторону детской. Я решительно двинулась налево, к нашим спальням.
– Ты скоро? – спросил он.
– Приду через десять минут.
– Очень хорошо, дорогая.
Мне понадобилось меньше десяти минут, чтобы сорвать с себя серое платье и облачиться в другое. Когда я зашла в детскую, в комнате было темно, горела лишь одна лампа, при свете которой Эмерсон читал вслух. Рамсес, лежа в кроватке, с пристальным вниманием изучал потолок. Со стороны эта семейная сцена представляла собой умилительное зрелище, если бы не смысл произносимых слов.
– Анатомические особенности ран, включающие в себя глубокий пролом лобной кости, разбитую глазницу и скуловую кость, а также удар копья, который размозжил сосцевидный отросток височной кости и поразил первый шейный позвонок, позволяют нам восстановить картину гибели царя.
– А, мумия Секененры, – сказала я. – Вы уже так продвинулись?
Маленькая фигурка произнесла из кроватки задумчивым голосом:
– Мне казется, сто его умелсвили.
– Что? – спросил Эмерсон, озадаченный последним словом.
– Умерщвили, – перевела я. – Соглашусь с тобой, Рамсес. Человек, чей череп размозжен множественными ударами, вряд ли умер своей смертью.
Но Рамсес был глух к сарказму.
– Я хосю сказать, – настаивал он, – сто его убили его плиблизенные.
– Исключено, – воскликнул Эмерсон. – Питри тоже выдвигал эту абсурдную гипотезу, но это невозможно, поскольку…
– Достаточно, – вмешалась я. – Уже поздно, и Рамсесу пора спать. Кухарка будет вне себя, если мы тотчас не спустимся вниз.
– Ну что ж. – Эмерсон склонился над кроваткой. – Спокойной ночи, мой мальчик.
– Спокойной носи, папа. Думаю, здесь замесана леди из галема.
Я схватила Эмерсона за руку и подтолкнула его к двери, прежде чем он мог развить это интересное предположение.
Завершив свою часть ежевечернего ритуала (я опущу его описание, ибо оно вряд ли что-то добавит к моему рассказу), я последовала за Эмерсоном.
– Право, – сказала я, взяв мужа под руку, – иногда мне кажется, что Рамсес чересчур развит для своих лет. Интересно, он знает, что такое гарем? Пожалуй, не стоит читать ребенку на ночь о таких зверствах – вряд ли это благотворно влияет на нервы.
– У Рамсеса стальные нервы. Не волнуйся, он будет спать сном праведников, а к завтраку предъявит нам готовую теорию.
– Эвелина будет рада взять его на зиму.
– Опять ты об этом? Неужели ты настолько лишена материнского инстинкта, что подумываешь бросить собственного ребенка?
– Похоже, мне приходится выбирать между ребенком и мужем.
– Нет, ни в коем случае. Никто никого не бросает.
Мы заняли свои места за столом. Под пристрастным взглядом Уилкинса лакей подал первое блюдо.
– Превосходный суп, – довольно сказал Эмерсон. – Передайте кухарке, Уилкинс, будьте так добры.
Уилкинс склонил голову.
– Давай проясним кое-что раз и навсегда, – продолжил Эмерсон. – Я не хочу, чтобы ты изводила меня изо дня в день.
– Я никогда тебя не извожу.
– Нет, потому что я тебе этого не позволяю. Уясни себе, Амелия: я не поеду в Египет. Я отказал леди Баскервиль и не передумаю. Понятно?
– Ты совершаешь серьезную ошибку, – сказала я. – Я думаю, тебе следует поехать.
– Твое мнение мне известно. Ты высказываешь его весьма регулярно. Почему ты не позволишь мне решать самому?
– Потому что ты неправ.
Нет смысла приводить здесь дальнейшее содержание спора. Он продолжался в течение всего ужина. Время от времени Эмерсон, пытаясь доказать свою правоту, искал поддержку у Уилкинса и Джона, нашего лакея. Джон, служивший у нас всего несколько недель, поначалу смущался. Однако постепенно заинтересовался нашей беседой и стал добавлять свои комментарии, не обращая внимания на гримасы и косые взгляды Уилкинса, который уже давно привык к эксцентричным манерам Эмерсона. Дабы пощадить чувства дворецкого, я попросила подать кофе в гостиную, и Джон был отпущен за ненадобностью.
– Лучше бы вам остаться дома, сэр, – заявил он напоследок с серьезным видом. – Эти туземцы – народец странный. И нам всем будет не хватать вас, если уж вы решитесь поехать.
Хотя Джону разрешили уйти, нашего спора это не разрешило: я со свойственным мне упорством стояла на своем, несмотря на попытки Эмерсона сменить тему. В конце концов с яростным криком он швырнул чашку в камин и выскочил из комнаты. Я последовала за ним.
Когда я пришла в спальню, Эмерсон раздевался. Фрак, галстук и воротничок уже украшали предметы обстановки. Он дернул на груди рубашку, и пуговицы брызнули в разные стороны.
– В следующий раз, когда будешь на Риджент-стрит, не забудь купить дюжину рубашек. – Я присела, чтобы уклониться от просвистевшей у моего лица пуговицы. – Когда поедешь за границу, они тебе понадобятся.
Эмерсон резко повернулся. Для крепкого человека с широкой грудью он на редкость проворен. В один шаг он преодолел разделявшее нас расстояние, взял меня за плечи и…
Но здесь я должна сделать небольшое отступление. О нет, я не собираюсь оправдываться, ни в коем случае! Я всегда считала, что современная ханжеская чопорность в вопросах влечения полов, даже между мужем и женой – а ведь эта связь освящена церковью и узаконена государством, – совершенно абсурдна. По какой причине романисты, претендующие на описание «правды жизни», замалчивают эту благопристойную и увлекательную форму человеческой деятельности? Еще более недостойными я считаю разного рода ухищрения, к которым прибегают писатели в этом вопросе. Слащавые любезности на французском ничем не лучше многосложной напыщенности латыни. Меня вполне устраивает старое доброе англо-саксонское наречие, язык наших предков. Лицемеры, если таковые найдутся среди моих читателей, могут пропустить нижеследующие строки. Несмотря на мою сдержанность, наиболее проницательные из вас уже догадались, что мы с мужем питаем друг к другу самые теплые чувства. И я не вижу повода этого стыдиться.
Но вернемся к основной линии нашего повествования.
Схватив меня за плечи, Эмерсон хорошенько встряхнул меня.
– Черт возьми! – закричал он. – Разве я не хозяин в своем доме? Сколько раз мне объяснять, кто здесь принимает решения?
– Я думала, мы принимаем их совместно, после спокойного, взвешенного обсуждения.
От резкого рывка мои жесткие густые волосы, которые не так-то просто укротить, выбились из прически. Продолжая удерживать меня за плечо, Эмерсон запустил другую руку в толстый узел у меня на затылке. Гребни и шпильки разлетелись в разные стороны, и волосы рассыпались по плечам.
Я не помню точно, что он сказал. Эмерсон был краток. Он поцеловал меня. Я была исполнена решимости не отвечать на поцелуй, но целуется Эмерсон прекрасно. Прошло некоторое время, прежде чем я обрела дар речи. Мое предложение позвать горничную, чтобы она помогла мне снять платье, было категорически отвергнуто. Эмерсон предложил свои услуги. Я указала ему на то, что его методы обычно приводят платья в состояние полной негодности. В ответ он презрительно фыркнул и яростно набросился на крючки и петли.
Да, я считаю искренность в подобных вопросах весьма похвальной, но каждый человек имеет право на частную жизнь. И тут придется прибегнуть к типографскому эвфемизму.
* * *
К полуночи снег перестал, за окном порывистый восточный ветер сотрясал обледеневшие ветви деревьев. Сопротивляясь его напору, они скрипели и трещали, словно ночные духи. Прижавшись к груди мужа щекой, я слушала ровный ритм его сердца.
– Когда мы едем? – тихо спросила я.
Эмерсон зевнул.
– Корабль отплывает в субботу.
– Спокойной ночи, Эмерсон.
– Спокойной ночи, моя дорогая Пибоди.