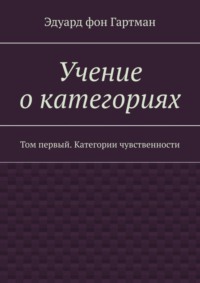Buch lesen: "Учение о категориях. Том первый. Категории чувственности"
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Эдуард фон Гартман, 2024
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-0667-4 (т. 1)
ISBN 978-5-0064-0666-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предварительное замечание редактора
Для нового издания «Учения о категориях» Гартмана я обратился к рукописной рукописи автора, которую ее владелица, госпожа Альма фон Гартман, передала во временное пользование Берлинской государственной библиотеке. Просмотр рукописи оказался на удивление продуктивным. Многие читатели «Учения о категориях» уже отметили, что печать была искажена многочисленными ошибками; в моем распоряжении были печатные и рукописные списки типографских ошибок, составленные внимательными читателями. (Д-р Карл Петрашек, Мюнхен, предоставил наиболее полный список такого рода в 1919 году, за что я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить его). В очень многих случаях благодаря рукописи теперь разрешены все сомнения, обычно настолько окончательно и безупречно, что я смог обойтись без включения соответствующих отрывков в указатель чтений.
Эти случаи, когда новое издание воспроизводит рукопись перед лицом очевидных ошибок в первом издании, контрастируют с другими, когда рукопись и первое издание согласны друг с другом, но не с предполагаемым смыслом. Это случайные ляпсусы автора, которые были добросовестно приняты наборщиком, но не исправлены корректорами первого издания. Во многих случаях речь идет о незначительных лингвистических деталях; только те случаи, когда интерес к смыслу подсказывал это, были явно отмечены в списке чтений.
Одно из главных отличий нового издания от первого заключается во включении изменений и дополнений, которые автор сделал в последнее десятилетие своей жизни после публикации первого издания (1896), частично в своем личном экземпляре, а частично на специальных листах, которые он специально выделил для включения во второе издание «Учения о категориях». Те из этих дополнений и изменений, которые относятся к чисто стилистическим улучшениям, как правило, включаются без особого выделения (; те же, которые привносят нечто фактически новое, выделены курсивом и, таким образом, составляют наиболее ценное дополнение к новому изданию.
В своей «Системе философии в началах», опубликованной уже после его смерти (1906), Эдуард фон Гартман переосмыслил всю проблемную область, включая теорию категорий. В этой «Системе оснований», которую автор сам распорядился издать из своего наследства, повсюду есть ссылки на соответствующие фрагменты более ранних подробных работ, чтобы облегчить сравнение. Мне показалось, что в соответствии с целью настоящего издания необходимо перенести эти ссылки, восходящие к изложению самого Гартмана, в новое издание, и г-н Гюнтер Нойгеб или Эн из Германштадта с большой самоотдачей взялся за выполнение этой задачи по переносу ссылок Гартмана. Так, например, в разделе Gr. II. 47 ниже приводится ссылка на том 2, с. 47 Systemgrundrisse, где дается ссылка на соответствующую страницу «Учения о категориях».
В тексте последовательно проставлены номера страниц первого издания. По просьбе издателя книга публикуется в трех отдельных томах, каждый из которых содержит полный указатель в оригинальной форме первого издания с необходимыми дополнениями для лучшего обзора.
Господин В. в. Шнеен из Ольденбурга не только пожертвовал своим экземпляром редкого ныне первого издания для подготовки нового издания, но и поддержал издателя в пересмотре текста с такой неутомимой и глубоко проникновенной критикой, что читатель, который в новом издании должен почувствовать себя избавленным от ловушек первого издания, обязан прежде всего верному труду этого ученого, а также рукописи. Д-ру Рихарду Мюллеру-Фрайефельсу, инициировавшему публикацию работы в «Философской библиотеке», и в особенности хранительнице наследства, госпоже Альме В. Гартман, гарантирована благодарность всех будущих пользователей.
Бонн а. Р., лето 1922 г.
Фриц Керн.
Предисловие
Настоящая работа рассматривает категории, во-первых, в субъективно-идеальной, во-вторых, в объективно-реальной и, в-третьих, в метафизической сфере и, соответственно, предлагает, во-первых, теорию познания, основанную на категориях, во-вторых, категориальный фундамент натурфилософии и, в-третьих, метафизики. Она закрывает существовавший до сих пор в изложении моей философской системы разрыв между «фундаментальной проблемой эпистемологии», с одной стороны, и философией природы и метафизическим учением о принципах «философии бессознательного» – с другой.
Субъективно-идеальная сфера включает в себя субъективно-идеальный мир явлений в философствующем индивиде, содержание сознания, эпистемологически имманентное, и, таким образом, совпадает с областью сознательного разума. Объективно-реальная сфера охватывает единый, объективно-реальный мир явлений, общий для всех индивидов, вне всех индивидуальных сознаний, который уже эпистемологически трансцендентен, но метафизически имманентен, и тем самым совпадает с царством природы, которое, помимо материального мира, охватывает и мир духа в соответствии с его природной стороной, охватывая тем самым и материальную, и духовную природу. Метафизическая сфера – это трансцендентное как в эпистемологическом, так и в метафизическом плане бытие, лежащее за двойственной видимостью, и совпадает с бессознательным духом, который является единым корнем сознательного духа (VI) и природы, сознания и существования, внутренности и внешности.
Противопоставление субъективно-идеальной и объективно-реальной сфер представляет собой две стороны мира видимостей, которые всегда в нем различались и которые не должны различаться только для абстрактного отражения субъективной мысли, но различны сами по себе. Всякое мировоззрение, отрицающее одну из них (например, нематериалистический спиритуализм Беркли, метафизический абсолютный идеализм Гегеля, эпистемологический трансцендентальный идеализм, отменяющий реальность бытия вне сознания), уродует мир видимостей. Противопоставление метафизической сферы тотальности субъективно-идеального и объективно-реального, с другой стороны, представляет собой отношение между сущностью и видимостью. Без сущности, стоящей за ней, видимость опускается до бессодержательного подобия; без видимости же сущность была бы дремлющей тишиной, непознаваемой как для себя, так и для и, которого тогда вообще не было бы. Эта противоположность тоже существует не только для абстрактного отражения субъективной мысли, но выражает лишь двусторонность бытия, но иную, как бы занимающую иное измерение, чем двусторонность субъективно-идеальной и объективно-реальной сферы, которая относится только к миру видимости, т. е. к одной степени пропорции этой второй противоположности. Однако в случае обеих противоположностей речь идет лишь об абстрактном отражении субъективной мысли, если противоположные элементы концептуально отделены друг от друга, т. е. рассматриваются уже не в конечности их отношений, а в искусственной и насильственной изоляции.
Ибо на самом деле сферы взаимопроникают друг в друга так, что не могут быть друг без друга.
Там, где деятельность должна стать реальной, то есть действенной по отношению к другим или вовне, должна существовать другая деятельность и противостоять ей; но там, где другая деятельность противостоит и сопротивляется ей, это сопротивление должно привести к реализации тщетной части ее стремления, то есть к ощущению, к сознанию. Если же сознание существует, то его содержание и форма должны определяться и вызываться впечатлениями извне, а это опять-таки было бы невозможно, если бы не существовало направленной вовне деятельности, в торможении и нарушении которой сначала состоят полученные впечатления. (Ошибка Гербарта заключается в том, что спящее, неактивное, субстанциальное существо может быть каким-то образом потревожено). Таким образом, никакое бытие-для-других не может существовать, не приводя к бытию-для-себя, и никакое бытие-для-себя не указывает обратно на бытие-для-других.
Как мало эти противоположные элементы могут быть оторваны друг от друга, так же мало внешность и сущность, или двусторонний мир внешности и метафизическая сфера, ибо они полностью взаимопроникают друг в друга в той мере, в какой идет мировой процесс и сущность как простое бытие не покоится в себе. Поскольку мы способны познать сущность только как метафизическое основание мира и стоим внутри мирового процесса, то в течение его длительности так же мало сущности, которая не появляется, как и вообще может быть появление, которое не имеет сущности и не покоится на основании сущности. Если мы представляем себе мир со стороны периферии, то он есть соответствующая совокупность всех соответствующих конфликтов между отдельными частичными деятельностями; если мы представляем его со стороны центра, то он есть абсолютная деятельность всеединого существа, внутренняя множественность которого задает конфликты частичных деятельностей. Таким образом, деятельность – это связь между сущностью и феноменальным результатом. Как абсолютное и единое, хотя и разделенное в себе, она есть непосредственная деятельность сущности и, таким образом, принадлежит к метафизической сфере; как многообразная сумма сталкивающихся частичных деятельностей она составляет феноменальный мир, который в своей двусторонности состоит именно в тотальности этих столкновений. Где бы ни рассматривался тот или иной фрагмент феноменального мира на предмет его генезиса, для объяснения приходится обращаться к бессознательно-духовной частичной деятельности, которая сама опять-таки является лишь отдельным членом абсолютной бессознательно-духовной деятельности существа. Вся субъективно-идеальная сфера или сознательная духовная жизнь растворяется при ближайшем рассмотрении в меняющемся содержании индивидуальных сознаний, и каждое из этих содержаний есть опять-таки продукт бессознательно-духовной деятельности, принадлежащей отчасти материальной, отчасти духовной природе индивида. К материальной природе индивида относятся, например, молекулярные предрасположенности и колебания в материальных атомных группах, которые называются его центральной нервной системой; к духовной природе – бессознательные синтетические интеллектуальные функции, посредством которых, в соответствии с этими атомными движениями, градуируется как материал ощущений, так и конкретная форма соответствующего содержания сознания, и телеологические функции, посредством которых направляется органическая жизнь, сознательное мышление и мотивационные процессы. Тех, кто привык в современном естествознании всегда понимать под «природой» только «материальную природу», возможно, смутит тот факт, что здесь это выражение употребляется в более широком смысле. Это оправдывается как происхождением слова natura, так и общим употреблением этого термина, в котором говорится о «духовных природах» и «природе духа», а также философией тождества Шеллинга, который втискивает в понятие «природа» не только бессознательно-духовные функции, но и, что, конечно, не стоит подражать, сознательные индивидуальные духи и метафизическое бытие1. Обе стороны природы объективно реальны в одинаковой степени, ибо обе они телически-динамичны, хотя только материальная природа проявляет механические силы, состоящие из атомных сил, т. е. силы, пространственные направления действия которых пересекаются в одной точке, центре силы. Обе они также подчиняются логическим, математическим и телеологическим «законам», хотя законы высших уровней индивидуальности сложнее, чем низших. Таким образом, природа, как духовная, так и материальная, указывает назад, на действующий в ней бессознательный дух, точно так же, как она указывает вперед, за пределы себя, на сознательный дух, для которого она служит средством. Благодаря этому промежуточному положению между бессознательным и сознательным духом в связи с различением материальной и духовной природы, обвинение в натурализме исключается, ибо натурализм может означать только такую точку зрения, при которой природа является конечным основанием и самоцелью мирового процесса и исчерпывается материальной природой. Различая природу на духовную и материальную, мы, однако, не вводим в нее нового дуализма, ибо предполагается только один вид субстанции и функции – бессознательно-духовный, который представляет собой единство силы или воли с законом или идеей, как в духовном, так и в материальном завершении.
Различие между той бессознательной психической деятельностью, которая подпадает под понятие духовной природы, и той, которая подпадает под понятие материальной природы, следует искать даже не в теоретико-динамической стороне бессознательной психической деятельности, а только в ее идеальной природной законности и заключается лишь в более высокой или более низкой ступени законности или идеи, составляющей содержание воли или силы.
После этих объяснений следующий табличный обзор уже не должен допускать неправильного толкования.
В каждой из трех сфер категории должны анализироваться отдельно, поскольку не все категории действительны во всех трех сферах, а если и действительны, то не везде в одном и том же смысле. Как бы мало ни существовали три сферы в отрыве друг от друга, для нашего понимания необходимо сделать каждую из них особым объектом исследования, чтобы уберечь себя от путаницы и взаимозамены. Сохранение индуктивной процедуры было бы наиболее очевидным, если бы сначала были проработаны все категории субъективно-идеальной сферы, затем все категории объективно-реальной сферы и, наконец, все категории метафизической сферы; ведь таким образом восхождение от более известного к менее известному, очевидно, происходило бы в три этапа. Однако такое распределение материала имело бы тот недостаток, что каждая категория обсуждалась бы трижды в совершенно разных местах. Поэтому я предпочел единообразное рассмотрение каждой отдельной категории, чтобы иметь возможность представить все, что необходимо сказать о ней в контексте; таким образом, в каждой отдельной главе сохраняется восходящее направление исследования. Если бы мы хотели написать полную эпистемологию, натурфилософию и метафизику, нам пришлось бы смириться с фрагментацией того, что должно быть сказано о категориях; но поскольку здесь речь идет о теории категорий, правильнее было выбрать последний вариант, несмотря на неудобства, связанные с тем, что эпистемология, натурфилософия и метафизика в большей или меньшей степени встречаются в каждой главе именно таким образом.
До сих пор теория категорий рассматривалась только как неотъемлемая часть либо эпистемологии, либо метафизики; даже книги, носящие название «Логика», как правило, представляют собой либо эпистемологию, либо метафизику. Более или менее метафизически враждебное или, по крайней мере, метафизически застенчивое (VII) отношение философии последнего человеческого века естественным образом вывело эпистемологическую трактовку теории категорий на передний план так же однобоко, как это было с ее метафизической трактовкой в период господства гегелевской философии. Мне еще не попадалась работа, в которой бы просто делалась попытка систематически проработать категории во всех отношениях и спокойно ждала, сколько пользы принесет процесс эпистемологии, натурфилософии и метафизики. Тем более необходимо наконец сделать категории предметом явного, а не просто эпизодического исследования. С этим согласится каждый, кто осознает, насколько решающую роль всегда играла концепция категорий в философском взгляде на мир и насколько история теоретической философии определяется историей учения о категориях. – Чтобы работа не вышла за рамки одного тома, мне пришлось воздержаться от исторических отступлений и дискуссий с представителями инакомыслящих. Я надеюсь, что это ограничение благотворно сказалось на связности изложения. Истории теории категорий я уделил больше внимания в моей еще не опубликованной «Geschichte der Metaphysik» (издана в Лейпциге 1899—1900. A. d. II.), а также в моих работах о Канте, Шеллинге, Лотце и Кирхмане. Сейчас я позволю себе лишь несколько замечаний, которые могут облегчить читателю ориентацию в том, с какой точки зрения написаны и должны быть поняты последующие рассуждения.
Под категорией я понимаю бессознательную интеллектуальную функцию определенного рода или бессознательную логическую детерминацию, устанавливающую определенные отношения. В той мере, в какой эти бессознательные категориальные функции входят в субъективно-идеальную сферу, они делают это через свои результаты, а именно через определенные формальные компоненты содержания сознания; сознательная рефлексия может затем, a posteriori, вновь вычленить путем абстракции из готового содержания сознания те формы отношения, которые были активны в его формировании (VIII), и таким образом получить категориальные понятия. С другой стороны, абсурдно желать с помощью сознания непосредственно подслушать предсознательное возникновение содержания сознания, т. е. желать распознать априорные функции a priori.
Категориальные понятия – это сознательные представители индуктивно выведенных бессознательных категориальных функций; если бессознательных категориальных функций не существует, то предположение о категориальных понятиях также является ошибкой. Категориальные понятия формальны по сравнению с содержанием, составляющим их конкретное определение (размер? причина?), но определены по содержанию в сравнении друг с другом (размер имеет иное концептуальное содержание, чем причина). В теории категорий рассматриваются только наиболее важные и наиболее общие формы отношения; насколько далеко хочется проникнуть в более тонкие разветвления реляционных понятий – это чисто вопрос возможности. Внутри понятий отношения нет границ, где заканчиваются категориальные функции и начинаются обычные понятия, но самодифференциация логической детерминации плавно переходит от самых общих форм отношения ко все более специализированным.
Категориальные понятия являются лишь результатами абстракции, т. е. ни в коем случае не являются врожденными; бессознательные категориальные функции являются prius всего содержания сознания, т. е. заданы a priori, но они столь же мало врождены индивиду. Они являются способами действия безличного разума в индивиде, следовательно, надиндивидуальны по своему происхождению, даже если они принадлежат к этой надындивидуальной группе функций как конкретные функции; врожденной может быть только большая или меньшая восприимчивость центральных органов для восприятия этих функций, образующих ощущения. Но мы также не можем приписать категориальным функциям бытие-в-себе в смысле предсуществующих форм, которые были бы готовы в абсолютном духе; скорее, они в каждом случае являются логическими определениями ad hoc, которые только формально едины, поскольку логическое сохраняет свое тождество с самим собой и должно приходить к тем же логическим определениям по тем же поводам. Категории – это не мета-флАйфические ящики абсолютного разума, а логические самодифференциации логического определения; логическое определение, однако, само является функцией логического или абсолютного разума, так что категории устанавливаются только при бессознательной функции и вместе с ней, а не являются ее prius.
В сфере объективно-реального бытия категориальные функции могут быть пресуппозиционированы лишь постольку, поскольку, с одной стороны, объективно-реальное бытие является стоянием в отношениях, а с другой стороны, содержание этих отношений логически определено. И то, и другое имеет место только в том случае, если динамическая теория материи является единственно верной, исключая все материальное бытие, и если законы динамических отношений определяются логически как таковые. В метафизической сфере действительность категорий также распространяется лишь в той мере, в какой отношения устанавливаются логическим путем. —
После того как греческие философы вплоть до Платона вели более осторожные поиски категорий, вероятно, именно в ближайшей школе Платона впервые были установлены десять категорий, которые Аристотель принял и использовал как найденные и впоследствии изложенные в его псевдоаристотелевском трактате о категориях. Аристотель еще не смог установить четкую связь между четырьмя принципами, которые он добавил своими собственными средствами, и этими категориями. Затем стоики попытались упростить так называемые аристотелевские категории, а Плотин подверг их резкой критике и ограничил их феноменальной сферой. Плотин попытался установить более высокие категории для метафизической сферы, следуя платоновским ориентирам; в частности, он боролся за категорию абсолютной субстанции, для которой у него не было подходящего обозначения. Только Спинозе удалось отвести категории субстанциальности высшее и, как нам представляется, окончательное место в системе категорий. Английские и шотландские философы разрушили категории с помощью эмпирической критики, что было совершенно правильно по сравнению с привычным до сих пор взглядом на них как на (X) сознательные понятия, но, конечно, это привело лишь к агностицизму, то есть к банкротству познания.
Тем временем Лейбниц открыл путь к лучшему пониманию категорий с помощью гипотезы о бессознательных идеях, а Кант воспользовался ею, чтобы восстановить их как синтетические, априорные, досознательные интеллектуальные функции, как дифференциации синтетического единства трансцендентальной апперцепции. Помимо категорий понимания, он признавал «категории чувствительности» и понятия рефлексии, и прежде всего понятия рассудка, хотя они и не занимали места в его таблице категорий в строгом смысле слова. Но все они неосознанно вытекали для него из синтетического единства трансцендентальной апперцепции; конечность предстает для него как ее первый результат и, следовательно, как высшая из всех категорий2.
Преемники Канта пытались вывести категории из трансцендентального синтеза апперцепции, т.е. подслушать бессознательную интеллектуальную функцию у сознания. Естественно, на первый план вышел характер категорий как отношений, или отношение все более и более становилось первичной категорией. Одновременно, однако, все более очевидным становился логический характер интеллектуальных функций, то есть категориальные отношения все более понимались как логические детерминации, причем логическое понималось уже не в смысле сознательной, субъективной, дискурсивной логики, а как бессознательное, объективное, интуитивно логическое.
Вершиной этого учения становится гегелевский панлогизм, в котором все должно быть выведено из категорий, но категории должны быть выведены исключительно из логического. Но это уже невозможно, потому что логическое без нелогического, к которому оно применяется, пусто и остается пустым, т. е. ни к чему не приводит. Нелогическое, к которому оно могло бы себя применить, не может быть найдено вне себя в панлогической системе; поэтому оно должно породить такое в себе. (XI) Поэтому самодвижение логического в панлогизме должно быть таким, которое постоянно порождает и преодолевает противоречие или антилогическое, т. е. оно должно быть диалектическим.3 Но и этой диалектики недостаточно; необходимо добавить понятие случайного как относительно нелогичного, хотя в панлогизме так же трудно понять, откуда случайное может быть добавлено к логическому извне, как и то, как логическое может быть логически вынуждено само производить случайное. Но даже связь диалектики противоречия со случайным еще не способна объяснить пространственность и временность или даже интенсивность силы; поэтому они остаются исключенными как нелогическое в третьем смысле, как бездумное бытие вне себя или иное (т.е. не логическое) бытие, на которое логическое отпускает себя в логически непостижимом произволе или в которое оно превращается.
И все же и для Гегеля истина логической идеи – это только «осуществленная идея», опустошившая себя в природе и вновь пришедшая к себе в сознании духа. Логическая идея» – это еще абстрактный фрагмент абсолютной идеи; последняя становится конкретной только тогда, когда она вновь сокращает нелогическое как антитезу всей логической идеи и сливается с ним в высшем синтезе (см. мою Эстетику I, с. 109—110). Гегель правильно чувствует, что реальность, в которую на этом шаге экстернализируется логическая идея, является нелогической антитезой в совершенно ином смысле, чем все относительно нелогические антитезы, которые он до сих пор рассматривал в своей логике; именно поэтому он завершает логику этой антитезой и, соответственно, должен также исключить из нее пространственно-временную протяженность и динамическую интенсивность, которые появляются только с этой антитезой, как то, что больше не принадлежит логике. Теперь все относительно нелогичные антитезы (например, бытие в сфере бытия, существование в сфере сущности и объективность в сфере понятия) являются лишь теневыми предвосхищениями этой абсолютно нелогичной (XII) антитезы посредством нашего абстрактного мышления. Ведь только для нас и нашей дискурсивной рефлексии абстрактное является приусом конкретного, но в самом Бытии и в абсолютном мышлении конкретное является логическим приусом абстрактного, так же как целое является приусом частей. Таким образом, все более простые и более абстрактные формы категориального самоопределения логического в абсолютном мышлении являются лишь моментами абсолютно конкретной идеи и определяются их артикуляцией в ней и к ней. Поэтому в конечном счете все они должны зависеть от этого абсолютно нелогичного антитезиса. Гегель этого не признает. Путь от абстрактного к конкретному, которым идет его логика, еще может быть оправдан для нашего абстрактного дискурсивного мышления; но он сразу же становится неверным, если в результате путаницы и смешения абсолютного и субъективного мышления, которые видит Гегель, его выдают за ход логического определения в самом абсолюте. (Gr. I. 37.)
Все абстрактные формы идеи покоятся на абсолютно конкретной мировой идее, которая есть синтез чисто логической идеи и ее абсолютно нелогического антитезиса, т. е. на отношениях логического к нелогическому в «осуществленной идее» (волевой идее, идейно-исполненном волении), которая охватывает обе стороны. Эти отношения логического и нелогического в «реализованной идее» необходимо поэтому подчеркнуть и понять, прояснить их влияние на генезис всех моментов идеи и их временную смену. Эта задача, которую Гегель еще не ставил перед собой в такой форме, существует совершенно независимо от того, возникло ли абсолютно нелогичное через превращение логического в его абсолютную противоположность (как предполагает Гегель), или же оно столь же вечно и согласовано с ним, как предполагаю я. Чтобы замаскировать невозможность первого предположения, Гегель постарался подготовить его не чем иным, как диалектическими превращениями абстрактных форм логической идеи в их противоположности, то есть подменил истинные отношения между логическим и нелогическим не чем иным, как иллюзорными отношениями своей диалектики противоречия (см. мою «Эстетику», т. I, с. 118—120: Üb. dialekt. dialekt. Methode pp. 75—109). (XIII) В деталях гегелевская теория категорий получила некоторые усовершенствования от его преемников.
Вейс и Густав Энгель попытались завершить гегелевскую теорию категорий, вновь введя в нее пространство и время; Гюнтер возобновил попытку Плотина установить измененное значение категорий в метафизической сфере по сравнению с феноменальной; наконец, Шеллинг в свой последний период попытался расширить учение о принципах и связать его с учением о категориях. Но после Гегеля не было достигнуто заметного систематического прогресса, поскольку никто не осознал проблему, поставленную неудачей гегелевского панлогизма. А она заключается в том, чтобы представить категориальные функции как логические определения логического и в логическом, но в то же время как отношения логического к нелогическому, причем не к нелогическому, заданному логическим, а к принципу, согласованному с ним и столь же оригинальному по отношению к нему. Те философы, которые, подобно Шопенгауэру и Бансену, исходили из нелогического принципа, вообще не могли поставить эту проблему, поскольку для них логическое – это лишь видимость в нелогическом, возникающая необъяснимым образом, и поэтому, последовательно придерживаясь своей точки зрения, они должны были бы прийти к человеческому агностицизму. Сформулировать эту задачу могла только та философия, которая позиционировала логическое и нелогическое как принципы, имеющие равный статус, но связанные общей субстанцией.
Таким образом, если верно, что именно метафизические точки зрения стали моим эвристическим ориентиром для новой задачи теории категорий, то, тем не менее, не верно, что моя попытка решения основана на метафизических предпосылках и с ними становится недействительной. Напротив, моя теория категорий строится так же индуктивно, как и все остальные части моей системы, и в той мере, в какой она приходит к метафизическим положениям, это отнюдь не предпосылки дедукции, а конечные результаты индукции. Мой счет везде опирается на данное содержание сознания и его эпистемологический анализ; везде только логические функции, которыми он оперирует и в ткань которых эпистемологический анализ растворяет данное содержание сознания. Нелогичное не привносится из метафизических предпосылок, а просто вытекает из самого анализа как последний логически неразрешимый остаток. Если «материю чувств» Канта, к которой формы восприятия и мышления Канта находят свое формативное синтетическое применение, подвергнуть дальнейшему анализу, как это сделано в первом разделе этой книги, то она тоже оказывается продуктом логических синтезов, в результате которых возникает качество; но, со своей стороны, категориальные функции, формирующие качество, в конечном счете оперируют бескачественными чувствами удовольствия и неудовольствия, в которых нельзя обнаружить никакого логического влияния, кроме закономерно определенной интенсивности чувства. Интенсивность как таковая, т.е. вне ее законного определения, с другой стороны, уже не является ничем логическим, как и неопределенная временность. Таким образом, анализ дошел до нелогичного, к которому применимы все логические категориальные функции. Бескачественная и количественно неопределенная интенсивность чувства, однако, должна быть понята только как аффект воли, то есть как субъективное преобразование столь же нелогичной интенсивности воли, а неопределенная временность – только как форма воли, задающей процесс, так что оба нелогичных остатка эпистемологического анализа индуктивно указывают обратно на нелогичную волю как на свое глубинное основание.