Buch lesen: "Интервью у собственного сердца. Том 2"
© Асадов Э.А., наследник, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
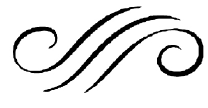
Военным громом опалены
(Продолжение)
Взрыв снаряда утром 4 мая 1944 года, словно страшный горный обвал, разделил дорогу надвое, отрезав от меня навсегда цветы, горящие всеми яркими красками, что дарует природа, россыпи звезд ночного неба, серебристо-брусничный блеск реки на рассвете, зеленую песню тайги, свет театральных рамп и киноэкранов, ласковые улыбки и взгляды – горячее многоцветье юности да и вообще жизни…
Готов ли я был к совершенно иным измерениям и новым путям моей судьбы? Разумеется, нет. Да, я, конечно же, знал, что война есть война, что могу быть раненым или убитым. Но знать это все же одно, а свалиться – другое. Если бы задали мне вопрос, какой отрезок жизни был для меня самым тяжелым? Я бы ответил: первые месяцы после ранения. Ибо переход от состояния, когда у тебя есть все: и молодость, и здоровье, и славная внешность, и друзья, и сердечные взгляды, и мечты, и надежды, и силы, – к мгновенному провалу, туда, где нет ничего, абсолютно ничего, кроме мрака, отчаяния и боли, – такое усвоить непросто.
Больше месяца я находился между жизнью и смертью, большую часть времени пребывая на «той» стороне, чем на этой. В сознание приходил редко, и то на короткое время. А потом, через месяц, медленно и с большим усилием все-таки переполз сюда, на «эту сторону». Переполз и понял, для того чтобы жить, бороться и завоевывать в этом мире какие-то высоты, нужно многое, и прежде всего воля, и даже не просто воля, а воля в квадрате. А первое испытание этой воли произошло довольно скоро при попытке перевезти меня из госпиталя в городе Саки в Симферополь. Ходить и даже просто вставать я тогда еще, естественно, не мог. Почему меня так скоро решили эвакуировать, я не знаю. Может быть, не хотелось возиться с таким тяжелым больным, как я, а может, хотели передать меня в более опытные врачебные руки, но как бы то ни было, меня отправляли. Натянули мне брюки, гимнастерку, сапоги, переложили, как мешок, с кровати на носилки и понесли. Но, видно, для таких путешествий я еще не годился. Едва меня вынесли на улицу и стали грузить в машину, как из лица у меня хлынула кровь, да так сильно, что меня почти бегом потащили обратно и, не снимая гимнастерки и брюк, сразу же положили на операционный стол. Подбежавшая ко мне хирург Тамара Тихоновна Егорова быстро и жестко сказала:
– Слушайте, лейтенант… у меня мало времени. Анестезию сделать не успею… Надо перевязать артерию, чтобы остановить кровь. Буду резать прямо так, по живому… Даже к столу привязывать тебя не буду… некогда. Выдержишь?
Я коротко сказал: «Да…»
Что я чувствовал, говорить не буду. Скажу только, что когда тебе без всякой анестезии режут на шее кожу и мышцы и копаются там внутри, перевязывая артерию, а потом снова все зашивают – ощущение не для слабонервных! Но я вспомнил железную волю своего отца и не застонал, не охнул ни разу. Кончив экзекуцию и бросив на стол перчатки, Тамара Тихоновна удовлетворенно сказала:
– Ну что ж, Эдуард, молодец! Тебя ведь Эдуардом зовут, правильно? Ну, жить тебе сто лет! Честно говоря, боялась, что не выдержишь. Ты в Москве живешь? Я тоже, возможно, после войны встретимся.
И мы действительно встретились в Москве в Центральном институте травматологии и ортопедии в 1950 году. На верхнем этаже института была зубная клиника, где я лечил зубы. И вот когда «зубная царица» профессор Померанцева уже цементировала мне пломбу, в кабинет под предводительством главного врача вошла шумная группа докторов-ординаторов. Они громко заговорили на свои профессиональные темы, и среди многих голосов я узнал один очень знакомый… ну просто очень… Приплюснув кусочки цемента, я громко сказал:
– Тамара Тихоновна, это вы?
От группы врачей отделилась женщина, быстро подошла и, взяв меня за руки, взволнованно спросила:
– Постойте, постойте, что-то очень знакомое… Ну конечно, я же вас оперировала… И зовут вас… – она замялась.
– Эдуард Асадов! – сказал я. – Вы еще предсказали мне долгую жизнь.
– Да, сто лет, не меньше, – ответила она, – теперь узнала… здравствуйте, славный мой, здравствуйте!
И вдруг, заплакав, обняла меня и поцеловала.
– Ну как же! Сто лет вам предсказывала, а надежды на то, что сумеем вас вытащить, было все-таки маловато. Теперь могу вам это сказать.
Вот такая произошла тогда встреча. Тамара Тихоновна была уже женой очень крупного генерала, но врачебную работу свою не бросала. И поставила на ноги еще много-много людей.
Но вернемся в лето тысяча девятьсот сорок четвертого. В госпиталь в Саках, туда, где начиналась моя новая, сложная и совсем незнакомая жизнь. И если вы спросите, откуда черпал я силы? Что помогало мне взять множество разных высот? И я отвечу вам так: у силы этой было множество составляющих. Тут и великая сила жизни, помноженная на молодость, и высокая цель, которую я выбрал и решил непременно достичь, и гордость и самолюбие (да, а почему бы и нет?). Отчего люди, порой абсолютно посредственные и даже пустые, все преимущество которых заключалось только в том, что они волею судьбы в годы войны остались невредимы, должны жить как победители этой жизни, весело, сытно и хорошо, а я буду где-то дохнуть и прозябать?! Нет, это мне не годится! Но была и еще одна сила. Та сила, значимость которой не только трудно, но и просто невозможно переоценить. Милые женщины! Чего только не случалось на свете: и радовали вы меня и огорчали. И спорил я с вами, и ссорился, да и сердиться доводилось мне тоже. Но все это в сутолоке жизни, в быту, в суете. А вот по большому, по глобальному счету, в вопросах, где решается иногда практически все, в поступках, где как в капле воды, отражается сущность души – кто он: человек или дрянь? – в бесстрашии решений, в твердости духа, там, где мужчины порой только трусливо вильнут хвостом, в доброте и надежности, да мало ли еще в каких замечательных качествах, не было равных вам никогда и нигде. И без вашей поддержки, любви и сердечности, которые, как свежий весенний ветер, надували мои паруса, не смог бы я доплыть сквозь все штормы и бури до Острова моих надежд и сделать даже четверти того, что удалось мне все-таки сделать! Спасибо вам во веки веков! И в самом деле, разве забуду я руки, которые бинтовали, лечили и кормили меня с ложечки. Они не гнушались ни кровавых тампонов, ни швабры, ни судна. Они утешали и поддерживали. Слабые, они были порой сильней, чем сталь. Полные доброты, они утешали в беде, гладили мои волосы и дружески подставляли плечо. И когда было мне трудно, они обнимали меня в знак любви и уверенности и вселяли в меня новые силы. Как же я могу это хоть когда-то забыть?! И когда случилась со мной беда, не все мужчины – мои товарищи и друзья оказалась рядом. Не все выдержали этот трудный экзамен жизни. Узнав о моем ранении, мой друг и товарищ Толя Изумрудов написал в письме: «Передайте Эдьке, чтобы не журился». После этого исчез и больше уже не объявлялся никогда. Не хотелось бы об этом говорить, но из песни ведь слов не выкинешь. Навестили меня по разу в московском госпитале мои боевые товарищи, с кем делили и жизнь, и смерть, и радость, и горе, Борис Синегубкин и Юра Гедейко, сказали несколько дружеских слов и ушли на долгие-долгие годы… ушли, чтобы смущенно поздороваться со мной уже почти через тридцать лет… Нет, я не сержусь и не обижаюсь на них сегодня. Больше того, я написал о них в своей книге «Зарницы войны» немало добрых и веселых слов. Тогда обижался, печалился. Что было, то было. А сейчас уже абсолютно нет. Пусть всякий живет так, как он может. У каждого есть в мире свой потолок! И если ласточка родилась ласточкой, не требуйте от нее полета орла. Вот и все. Однако ушли от меня в ту годину, признаться, не все. Иван Романович Турченко и Николай Никитович Лянь-Кунь остались моими друзьями на всю оставшуюся жизнь. Особенно тронул меня своими заботами Турченко. В голодные студенческие годы, работая директором серпуховского мясокомбината, он изо всех сил старался поддержать меня, что называется, на плаву, привозя мне то мясо, то сало, то колбасу. Он мог бы этого, конечно, не делать. Сослался бы на расстояние, на занятость, на дела, и гуд бай. И все было бы верно. Но друг ведь не зря познается в беде. Именно в ней-то он и познался. И все-таки я благодарен ему не только за сало и колбасу, а несравнимо больше еще за верность, за надежность, за чуткое сердце. Так было с мужчинами. Что же касается женских сердец, то тут потери были значительно меньше. Общаясь со мной в военные годы значительно реже, чем мои боевые друзья, они тем не менее в очень сложный и горький час оказались верней и надежнее многих. Ну чем особенно я был связан с девушками, которые приходили ко мне в московских госпиталях? Ну был знаком, да и только. И никаких обязательств передо мной у них вовсе не было. А они приходили и сидели возле моей кровати часами. И не просто сидели, а щедро дарили тепло своего сердца. Но эти девушки хотя бы были знакомы, а та молоденькая повариха в городе Саки? Кажется, ее звали Наташей. Она видела меня в госпитале впервые. Откуда ж взяла она такое светлое душевное тепло? Какое? А вот какое: после того как меня прооперировали по поводу перевязки артерии, я был снова водворен в ту же палату. И так как состояние мое было тяжелым, то есть мне совершенно не хотелось, да и ел я мало и с большим трудом. И вот каждое утро прибегала ко мне из кухни молоденькая повариха-украинка и певучим ласковым голосом спрашивала меня о том, что бы я хотел съесть. Ну и перечисляла свои блюда и кулинарные возможности. А мне было, в общем-то, все равно, и ее это огорчало. Она не обижалась на мои отказы, а терпеливо стояла и, желая вызвать у меня аппетит, красочно расписывала разные борщи и тефтели. Однажды, когда я чувствовал себя особенно плохо и был не в духе, я ей сказал:
– Ну что вы все меня уговариваете: надо кушать да надо кушать. А чего мне кушать, когда неизвестно даже, надо мне жить-то на свете или не надо?
Она рассердилась:
– Это как же еще не надо? Вон вы какую операцию перенесли и даже не застонали. Я же знаю. Поправитесь, женитесь и как еще заживете!
Я с раздражением буркнул:
– Хватит вам сказки рассказывать. Да кому я теперь понадобиться могу, такой красавец…
Ни секунды не колеблясь, она шагнула к моей кровати и горячо сказала:
– То есть как же это кому? Да хотя бы мне! Я за вас замуж пойду. Я вашу фотографию на удостоверении видела. Парень вы хоть куда! А то что сейчас ранены, так ведь это же вы за народ, за победу нашу страдали. И потом с лица не воду пить. Я за вас пойду! Не верите? Увидите сами. Если вас куда увезут, то запомните, меня зовут Наташа. Поправитесь, приезжайте в Саки, спросите в госпитале Наташу Иваненко. И какой вы там будете, здоровый или не здоровый, я не боюсь. И работу найдем, и жить будем, аж чертям тошно станет! Короче говоря, если не передумаете – приезжайте. А я не обману. Это точно!
Не знаю, насколько серьезными были эти слова. Может быть, да, а может быть, нет, но столько было в этом голосе тогда уверенности, теплоты и духовной щедрости, что действие их было сильнее любых лекарств. Значит, чего-то я еще стою, если ради меня говорятся вот такие слова! До сих пор вспоминаю о ней с благодарностью!
Ко времени прибытия в госпитали Москвы я несколько окреп и мог не только сидеть, но и ходить по палате. Мир так устроен, что когда человеку хорошо, то вокруг него масса всевозможных друзей. А когда ему плохо, то чаще всего рядом с ним никого. В первые месяцы, когда я лежал в госпиталях городов Саки, Симферополь и Кисловодск, как это нетрудно понять, был я абсолютно один с неожиданно навалившимся горем, с разноречивыми мыслями, сомнениями и призрачными надеждами. Когда же я оказался в Москве, сначала на Усачевке, в госпитале 46–41, а потом в ЦИТО – Теплый переулок, 16 (теперь улица Тимура Фрунзе), то здесь, слава Богу, одиночеству моему пришел конец. Появился друг по госпитальной палате старший техник-лейтенант Борис Самойлович Шпицбург, или просто Боря, с которым мы подружились сразу и на всю жизнь. Он читал мне газеты и книги, разгонял горькие мысли добрым словом и шуткой. Когда меня оперировали, терпеливо сидел возле операционной, потом спрашивал у входящих и выходящих сестер: «Танечка, ну как Асадов? А что ему сейчас делают? А состояние какое?»
Милый мой, добрый Боря! Да, я отлично знал, что ты сидишь там под дверью. Что ты смотришь на часы и волнуешься за меня. И от этого мне было немножечко легче. И когда должны были «подрезать» тебя, ты тоже знал, что я о тебе беспокоюсь и что первым, когда тебя привезут на каталке, кто станет у твоей кровати, буду я. Нас сдружили с тобой и горькие дни, и общие взгляды, и способность шутить в самые трудные минуты, и любовь к людям, и многое, многое другое. И то, что мы встретили друг друга, это наш общий выигрыш, выигрыш на всю оставшуюся жизнь!
Навещал меня в госпитале Иван Романович Турченко, он теперь служил в Наркомате обороны и, посещая меня, рассказывал все военные и служебные новости. И Коля Лянь-Кунь, когда оказывался в Москве, навещал меня тоже. Полковником он тогда еще не был, но дослужился уже до майора. Он был, как всегда, немногословен, но полон самой настоящей сердечности, которую сымитировать нельзя. И все-таки главными моими посетителями, а точнее, посетительницами, стали тогда девушки. И приходили они практически всегда. Одноклассницы, соседки по дому и просто знакомые, они прибегали ко мне кто чаще, кто реже, улыбались, говорили приветливые слова, изо всех сил старались влить в мою душу как можно больше света, бодрости и тепла.
Во всякой стране в каждую эпоху свой духовный настрой, своя общественная погода. В конце войны и в первые послевоенные годы в стране царил, если так можно сказать, дух горького возрождения. Весь драматизм войны, конечно, остался. Ни погибших, ни раненых не вычеркнуть из души и не забыть никогда. Это так. Но вместе с тем война уже разжала пальцы, что были на шее Москвы и Ленинграда, и отступала все дальше и дальше на запад. И все наше государство, перенесшее смертельную опасность, словно переживший кризис больной, расправляло плечи и, предвосхищая победу, уже готовилось к новой жизни. Жены и девушки писали письма на фронт, некоторые из этих писем публиковали в печати, читали по радио. В стихах, песнях и рассказах воспевалась любовь, настоящая, верная, на всю жизнь. Песня на слова Суркова «Землянка», стихотворение Симонова «Жди меня», рассказ Алексея Толстого «Русский характер», роман Василевской «Радуга» и множество песен на слова Фатьянова читались, пелись и были у всех на устах, сердечное счастье и горечь потерь то взвивались кострами, то чадили удушливым дымом практически рядом, на глазах у всех и были видны ярко и выпукло, как сквозь увеличительное стекло. Помню, как лежал со мной в палате раненый художник Телепнев. У него была оторвана нижняя челюсть. Говорил он очень неразборчиво и ел с колоссальным трудом с помощью воронки. Но как же трогательно и нежно ухаживала за ним жена. Она приходила почти ежедневно, кормила, поила, что-то тихонько шептала ему на ухо. И было столько между ними не показного, а подлинного тепла, что было ясно – это любовь такая, которая не кончится никогда. И тут же рядом, только в противоположном углу, прямо за кроватью Шпицбурга лежал летчик Пасечный. С самого начала войны он летал с английской территории бомбить Берлин и другие германские города. Однажды бомбардировщик его был подожжен взрывом зенитного снаряда. Пылающий, как факел, самолет Пасечный все же дотянул до британского берега. Бомбардировщик он посадил, но самого его из кабины уже вынимали другие. Лицо у Пасечного было разбито и обожжено. Его положили в челюстно-лицевое отделение английского госпиталя и крупный английский хирург-пластик с профессорским званием взялся помочь храброму русскому и пообещал сделать ему новое превосходное лицо. Но когда он уже приступил к операциям, в госпиталь пришел представитель нашего посольства и спросил:
– Вы любите свою родину?
– Да, конечно.
– И вы являетесь коммунистом?
– Разумеется.
– И вы мечтаете о скорейшем возвращении на родину? Не так ли?
Вопрос застал Пасечного врасплох. Да, на родину он, конечно же, рвался. Во-первых, отчизна есть отчизна, а во-вторых, дома его верно ждала жена, молодая и красивая, с которой он прожил всего три года. Но сначала он хотел, чтобы ему закончили все операции. Профессор был мастер своего дела и брался за работу охотно. Поэтому возвращаться сразу не имело смыла. Но представитель посольства думал иначе. В те времена мы избегали контактов наших людей с иностранцами. Он сказал, что хирурги-пластики есть и у нас, поэтому надо немедленно возвращаться домой. Делать было нечего. Пасечный человек военный, а приказ есть приказ. Единственно, что успел Пасечный сделать в Англии, так это купить себе патефон с набором эмигрантских пластинок Петра Лещенко. Вот таким-то образом и оказался Пасечный в Москве, в нашей палате, с набором пластинок и всеми своими переживаниями. А для волнений у него, конечно же, причина была. Он ждал прихода своей красивой супруги. Нет, в любви ее он, разумеется, не сомневался, но все-таки операции на лице еще только успели начаться. И надо сказать, что волновался не только он, волновалась за него вся госпитальная палата. Молодая жена пришла. Посмотрела внимательно на обожженное и побитое лицо мужа и не сказала ни слова. В глазах ее не было ни испуга, ни разочарования. Она посидела сколько положено. Рассказала все домашние новости. Ласково простилась. Ушла. И не пришла больше уже ни разу… Шли дни, недели и месяцы. И становилось абсолютно ясно, что женщина ушла навсегда. Пасечный переживал тяжко. Нет, он не жаловался никому. Но стал с этих пор сдержан, молчалив и никогда не улыбался, даже самым развеселым шуткам. Целыми днями он либо молча читал книги, либо так же молча крутил лещенковские пластинки.
Татьяна, помнишь дни золотые?
Кусты сирени и луну в тиши аллей…
Или:
Прощай! Прощай!
Прощай, моя родная!
Не полюбить мне в жизни больше никого…
Молчали и мы, слушая эти пластинки и думая каждый о своем. Да, в годы войны все свойства человеческих характеров проявлялись особенно ярко и остро, как плюсы, так и минусы. Что же касается военных госпиталей, то здесь все эти качества проступали еще сильней. И радости и драмы совершались почти ежедневно у всех на глазах. Вот заходил иногда к нам в палату из хирургического отделения майор Саша Буслов. Ранение у него было такое, что хуже, кажется, и придумать нельзя. У Саши не было глаз и кистей обеих рук. Но человек этот не пал духом и ни разу не пожаловался никому на свое горе. Чтобы уйти от тяжелых дум, он словно бы включил в душе своей все аварийные кнопки жизнелюбия и оптимизма. Войдет в палату, сядет на чью-нибудь кровать и, улыбаясь, скажет:
– Доброе утро, товарищи! Как самочувствие? Какие жалобы? Питание приличное? На клизму никого не надо назначить?
– Саша!.. – скажет кто-нибудь ему ласково. – Заходи, заходи. Курить будешь?
– Ну что ж, – откликнется Саша, – курить не работать. Это я готов всегда. Вынь у меня из нагрудного кармана мундштук, вставь папиросу и зажги, а уж дальше я сам. Рукава у Сашиной пижамы засучены до локтей. А мундштук ему нужен для того, чтобы удлинить папиросу, которую он ловко берет своими култышками. У Саши в Москве жена и десятилетний сын. Но жена, узнав о его ранении и убедившись во всем лично, моментально его бросила. У сына же было куда более доброе сердце, и он продолжал прибегать к отцу. Однажды Саша затосковал по дому. То ли сын разбередил ему сердце рассказами о школе и семейных делах, то ли просто захотелось ему подышать, что называется, родным воздухом, посидеть на своей кровати, включить знакомый динамик радиосети, этого я не знаю. Но только стал он просить врачей разрешить получить ему в каптерке обмундирование и отпустить на несколько дней домой. Там в доме ждала его старенькая мать, приехавшая из Воронежа. А идти домой Саша решил вдвоем с сыном. Парнишка был самостоятельным и серьезным и довериться ему было можно. Разрешение Саша получил, но уйти в назначенный день не ушел. Неожиданно перед обедом он вошел к нам в палату. Моя кровать стояла справа у самой двери. Саша вошел, подсел ко мне и чуть слышно сказал:
– Эдуард, ты здесь? Не спишь?
– Нет, Саша, конечно, не сплю. А почему ты не ушел домой? Я думал, ты давно уже убрался восвояси.
Вместо ответа Саша глубоко вздохнул, а потом сказал:
– Вынь у меня из кармана пачку папирос и прикури, а я объясню ситуацию.
Глубоко затянулся дымом и каким-то незнакомым глуховатым голосом сказал:
– Тут, понимаешь, неожиданная осечка вышла… Какой я и предвидеть не мог. Моя бывшая жена испугалась, что я буду претендовать на раздел квартиры. А квартира-то, Господи, полторы крохотных комнатенки! И задумала она любопытный фокус-покус. Какой? Ни за что не поверишь. Подозвала она огольца моего и говорит, это он мне сейчас рассказал, ну так вот, подозвала и говорит: «Ты уже большой, и с тобой можно говорить о серьезном. Смотри, то, что я тебе сейчас скажу, не рассказывай никому, не то я отвинчу тебе голову. Папа твой все равно уже не человек. И себе не в радость, и людям в тягость. Ты, когда будешь переходить с ним трамвайную линию, подожди, когда будет идти близко трамвай, а тогда и переходи. И когда трамвай будет совсем близко, ты оставь папу посреди рельсов, а сам беги на другую сторону и домой. Как будто испугался. Ты маленький, никто тебя винить не будет. Повторяю, ты сделаешь отцу только доброе дело. Избавишь его от несчастной жизни. Сделай, как я сказала. А если, повторяю, скажешь кому-нибудь слово – пощады не жди!» – Ну как, сын, правильно я говорю? – спросил Саша.
И детский голосок, всхлипнув, ответил:
– Правильно. Только ты все равно хороший. И я буду жить с бабушкой и с тобой.
Мы с Борей Шпицбургом и с теми, кто слышал этот разговор, заговорили бурно и возмущенно. Стали решать, как притянуть мерзавку к ответу. Но Саша, успокоившись, тихо сказал:
– Не буду я ее никуда привлекать. Женщин тут нет? Вот и хорошо. Пошла она к такой-то маме, вот и все. Черт с ней. Пусть подавится квартирой. Я получу себе новую. Мне маршал Воробьев обещал.
В армии Саша был сапером. И несчастье случилось с ним, когда он разряжал мину. Она взорвалась у него в руках. Вот он и надеялся на поддержку маршала инженерных войск. И как потом оказалось, не зря. Заканчивая разговор о Саше, хочу сказать вот что: когда человек попадает в драматическую ситуацию, выход у него один. Нужно собраться, мобилизовать все физические и духовные силы для того, чтобы найти себя в жизни и трудом своим достичь таких рубежей, чтобы стать наравне со всеми и даже, может быть, на ступеньку выше. Вот тогда ты будешь и интересен, и нужен и вокруг тебя будут и товарищи, и друзья, и любовь будет, и многие победы и радости тоже. Об этом я много раз говорил Саше. Теоретически он соглашался. Но вот практически… Практически ему изо всех сил помогали оставаться не у дел. Да, причина в том, что родная Сашина сестра была замужем за министром рыбной промышленности. Брала Сашу в свой богатый дом и вдвоем с мужем, очень добрым человеком, окружали Сашу теплыми заботами и закармливали севрюгами и балыками. И Саша как-то расслабился. Приготовился к подобной жизни навек. Он даже женился на приятной молодой женщине Вале Новиковой. Получил через маршала квартиру и поселился там с новой женой. А сына все-таки забрала прежняя его жена. Но тут он ничего не смог поделать. Так присудил закон. Увидев Сашу с женой в одном из крымских санаториев, Петр Павленко опубликовал в газете «Красная звезда» огромный очерк в полполосы: «Большое сердце». Думаете, про Сашу? Нет, про его жену. Да, она была симпатичная женщина. Но она-то все-таки была рядом и пользовалась всеми льготами и благами, которые распространялись на Сашу, а темно-то все-таки было ему, а не ей, и все тяжести судьбы свалились на его плечи. Но люди, видя раненого человека рядом с женой, восторгаются чаще всего не его силой и мужеством, а ее добротой и заботой. Вот так и получилось со статьей Павленко. Саша с его горькой судьбой, с его победившим беду оптимизмом, с его неунывающим характером и добротой оказался в очерке словно бы за экраном, а на переднем плане – Валя, прожившая с ним всего один год и, несмотря на «большое сердце», бросившая мужа полгода спустя. Саша был волевым человеком, жизнелюбом и веселым рассказчиком. Он мог как член партии и фронтовик пробиться на учебу в партшколу и стать превосходным лектором на самые животрепещущие темы. А он расслабился от забот и балыков в министерском доме и советов моих не послушал. Поменял потом московскую квартиру на Воронеж, где жила его мать, и зажил тихой жизнью пенсионера. Ранение у него было тяжелейшее, тут нечего и говорить, но все-таки сделать он мог гораздо больше. Да, много было в ту пору удачных, и неудачных, и разбитых, и нелепо склеенных, и просто несостоявшихся судеб.
Лежа в палате долгими бессонными ночами, размышлял о своих проблемах и я. Все приходилось начинать сначала, с абсолютного нуля. То есть все делать самостоятельно: и ходить, и писать, даже держать как следует ложку и бриться, да всего и перечислить нельзя. Но главное, это работа, дорога, по которой предстояло идти. Правда, это еще не сейчас, не сразу, впереди операции. Но все равно думать надо было уже теперь. И я снова писал стихи и упрямо стремился записывать их сам, и только сам. И будь я в ту пору одинок, совсем бы мне пришлось тяжко. Но в Москве ко мне приходили друзья-товарищи, о которых я уже говорил. Приходили девушки, с которыми я когда-то учился, был просто знаком или жил по соседству. Кира Соя-Серко. Помните, веселая, похожая на мальчишку. Пришла и другая одноклассница, тихая и задумчивая Рита Бирж, шумно заявилась прямо с войны в сапогах и морской форме Сара Певзнер, отыскала и пришла ко мне в госпиталь Шура – та, о которой написана поэма «Шурка», все чаще и чаще стала навещать меня Наташа – соседка моя до квартире, довольно часто прибегала Лена, моя ровесница, с которой я был знаком по квартире моей тети. Приходили Нина и Лида – каждая в отдельности. Одни дружески болтали и рассказывали мне все новости, другие задумчиво улыбались и говорили многозначительные слова, третьи были немногословны и больше прислушивались к тому, что говорил я. Одни приходили раз или два, а потом с чувством хорошо выполненного долга больше не возвращались. Пришла, например, одноклассница Шура Харламова, приветливая хохотушка. Во время войны она стала мамой и явилась ко мне с четырехлетней дочкой. Посидела, дружески пощебетала и больше не пришла. А вот другие девушки, среди которых были и Наташа, и Лена, и Лида, стали приходить все чаще и чаще.
Когда говорят, что мир состоит только из одной материи, – это звучит убедительно. И в юности своей я рассуждал так же категорично. Есть только то, что я вижу и знаю, а того, что мне неизвестно, конечно же, не может быть! Став значительно старше, я все больше и больше начал сомневаться в неопровержимости таких утверждений. И мог бы когда-нибудь привести множество соображений на этот счет. Но сейчас отвлекаться не буду, а выскажу только одну мысль: ну чем, скажите, кроме милости судьбы, можно объяснить такую вещь. В палате, где я лежу, двадцать пять молодых офицеров в возрасте от двадцати до тридцати лет. Я один из самых тяжелых, в то время как вокруг немало ребят с довольно простыми ранениями, ну, скажем, сломана переносица или оторваны часть уха и полгубы. Сделали, скажем, человеку утром перевязку, и весь день он свободен. Кровь молодая, энергии много. Вот и стараются хлопцы знакомиться с шефами, девушками соседней фабрики, вот и бегают к телефону-автомату, отчаянно приглашая подруг и знакомых прийти на свидание, вот и строчат открытки и письма и женам, и неженам, и Бог знает кому еще… И вот, повторяю, разве это не добрая улыбка судьбы, что больше всех девушек постоянно приходило не к ним, а ко мне, самому тяжелому, если не считать танкиста Саши Юрченко, из всех двадцати пяти офицеров. Сначала ребята удивлялись такой, с их точки зрения, несправедливости, потом, не без зависти, смирились, привыкли и обратились к своим повседневным делам. Впрочем, кроме доброй улыбки судьбы, была тут и еще одна причина, ну психологического, что ли, характера. Все девушки, приходившие ко мне, видели меня до ранения много-много раз. Сейчас перед ними лежал человек с туго забинтованным лицом так, что виден был только кончик носа да лоб. Но память их цепко хранила черноглазое, живое и, кажется, симпатичное и жизнерадостное лицо. И один образ неизменно накладывался на другой. Помните, как у Тютчева!
Я встретил вас, и все былое
В отжившем сердце ожило.
И далее:
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!
Даже спустя долгие-долгие годы образ юной девушки наложился на морщины семидесятилетней старушки, навестившей умирающего поэта, и старость отступила перед памятью любви:
И то же в вас очарованье…
И если память способна побеждать и старость и время, то что же говорить о временном расстоянии всего в год, два или три?! Даже тяжелораненый, я все-таки в какой-то степени продолжал оставаться для них одних тем же одноклассником Эдькой из десятого «Б», а для других – молодым подтянутым офицером-фронтовиком, не остывшим еще после поля боя. И все-таки справедливость требует, вероятно, сказать еще и другое. Наверное, и в раненом сохранились во мне и упрямая энергия, и характер, и довольно ощутимый огонь души. Ну и голова какая-никакая была на плечах. Значит, был еще порох в пороховницах. И надежда в душе жила!
Одновременно к больному мог прийти только один посетитель. Если же приходил второй, то должен был ждать в приемном покое, пока первый посетитель спустится и передаст ему халат. Видимо, перегнув палку с тяжестью ранения, судьба решила компенсировать мне этот перебор женским вниманием и нежностью. В первую половину дня посетителей не пускали: врачебный обход, процедуры, перевязка и прочее и прочее. Утром же проходили и все назначенные операции. Гости приходили после трех часов. Правда, к самым тяжелым больным посещения разрешались и утром. Так что ко мне девушки приходили нередко прямо с утра. Например, Наташа работала в разные смены, поэтому когда она шла во вторую, то приходила часам к десяти-одиннадцати утра и сидела у меня до обеда. Когда же она спускалась вниз, то там в ожидании халата уже сидела Лена, после Лены приходила Лида и сидела уже до отбоя. Разовые посетители постепенно отсеивались, потом приходили другие и тоже уходили. Иными словами, тут была текучка. Тем не менее из постоянных посетителей образовалось основное ядро. Я был рад этим посещениям, но в чувствах не объяснялся никому. Да и как можно было решать тут какие-то вопросы, если не было у меня еще никакого будущего и впереди ожидали новые операции. Милые девушки, они, наверное, все это чувствовали и взяли инициативу в свои ласковые и теплые руки. Первой решилась сказать мне о своих чувствах Наташа. Как-то утром, сидя возле меня, она долго молчала, отвечала на мои вопросы односложно и рассеянно, словно была где-то далеко.
