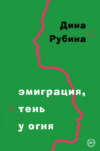Zitate aus dem Buch «Маньяк Гуревич»

Медики, как и прочие смертные, подвержены смене настроений, магнитным бурям, перепадам температур. Они зависят от семейных потрясений, бессонницы или уровня спирта в крови. Пусть даже они детально знают систему кровообращения или могут, скажем, грамотно поставить вам клизму – всё равно они ведомы разными чувствами и желаниями, а мир рассматривают сквозь тот же невский туман или белёсый иней.

Осенью клён становился розовым, потом загустевал багрянцем и пламенел, а берёза плескалась прозрачным и звонким золотом. Окно волновалось и вскипало золотом и багрецом, комната преображалась, и сама радость вскипала и ломилась в окно, торжествуя и чего-то настойчиво требуя.

Гуревич вырос в городе музеев. Всю младшую и среднюю школу папа наказывал его Эрмитажем: как очередная двойка – пожалте в Эрмитаж или в «Русский». В крайнем случае, в Музей музыкальных инструментов. Папа считал, что искусство вытягивает душу ввысь .

кладбищу. Здесь в центре позабытого всеми некрополя высилась башня: тоже всеми заброшенная и позабытая, грустная заколоченная церковь. Обойдёшь её, а там – спуск к совсем уж деревенской речке, где плавают утки, а в высокой сочной траве по берегам – брызги жёлтых одуванчиков. И шмели гудят, и зеленовато-белых капустниц ветерок носит, как на даче. Прямо не верится, что это – центр города. Среди старинных склепов, каменных ваз и крестов с выбитыми на них полустёртыми буквами можно ходить часами, осторожно пробираясь между надгробиями. – Не наступай на могилы, – каждый раз напоминал папа, – уважай покой мёртвых. Решётки, столбики, нарядные гробницы, Под коими гниют все мертвецы столицы…

на глаза наворачивались слёзы, и кто-то из детей, поднырнув ему под руку, непременно спрашивал этим мерзким голосом: – Па-ап, ты плачешь?!

Мысль написать такую вот светлую и тёплую книгу о трогательном, хотя и нелепом в чём-то человеке пришла мне в начале тягостных месяцев проклятой пандемии. Я вдруг поняла, что читателю и так тяжко дышать, и так тесно жить; что его и так сейчас сопровождают болезни, горести и потери; читатель инстинктивно ищет в мире книг такое пространство и такую «температуру эмоций», где он мог бы не то что спрятаться, но войти и побыть там, легко дыша, пусть и грустя, но и улыбаясь. Я поняла, что не хочу навешивать на своего читателя вериги тяжеловесных трагедий, и – главное – не хочу убивать своего героя. Нет, пусть, сопереживая ему, читатель вздыхает, смеётся и хохочет – так же, как мы сопереживаем, читая прозу О’Генри, Гашека или Джерома, – хотя, знаем, что жизнь человеческая полна разного рода невзгод и даже смертей. Я намеренно создавала образ человека любящего, трогательного, порядочного, а на каких-то поворотах судьбы отчаянно смелого и даже странного, отчего он не раз заслуживает от окружающих прозвище: «маньяк». Дина Рубина

Время было скромное, рукодельное, игрушки берегли годами, латали-подновляли и почитали, как дряхлых родственников.

Впереди на неохватных просторах бездонного времени раскинулись их грядущие судьбы: новенькие, ясные, не захватанные бездушными лапами взрослой жизни, не заваленные ещё разным досадным хламом. Прожить эти судьбы следовало захватывающе ярко!

Может, у каждого человека это особенная такая доминанта личности, с которой надо обращаться бережно, не гнуть её внутри себя по разные стороны жизни, не пробовать на крепость и износ. Не бросаться в глубины и бездны чужих религий, не отказываться от самого себя. А тянуться к близкому тебе теплу, просто тянуться к теплу, раскрываясь, как те самые трепетно пламенеющие цветки со стран

Однако многие психиатры, и Гуревич не был исключением, были убеждены, что все эти пассионарии, бесстрашно восстающие на систему, которая своротит любого, даже не заметив его, просто сдует лёгким чихом, – люди психически неуравновешенные, а часто просто больные люди; ибо чувство реальности и здоровый страх за жизнь свою и своих близких присущи как раз здоровому человеку.