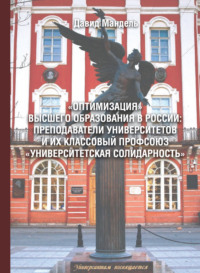Buch lesen: "«Оптимизация» высшего образования в России: преподаватели вузов и их классовый профсоюз «Университетская солидарность»"
Перевод с английского Татьяны Савельевой
Фото на обложке -
Санкт-Петербургский государственный универститет
© Давид Мандель, 2020
© «Пробел-2000», 2020
© Школа трудовой демократии им. Г.Я. Ракитской
Школа трудовой демократии им. Г.Я. Ракитской
119361 Россия. Москва. Улица Озерная, 25-287
1. Предисловие
В 2012 году Владимир Путин, избранный на третий президентский срок, после четырехлетнего пребывания в должности премьера-министра (во избежание изменения Конституции) и после волны беспрецедентно массовых протестов издал «майские указы», в которых, среди прочего, обещал повысить к 2018 году заработную плату врачам, научным сотрудникам и преподавателям вузов до 200 процентов от средней заработной платы в регионе1. А 30 декабря того же года правительство утвердило «дорожную карту» в сфере образования, из которой выяснилось, что повышение зарплаты будет происходить не за счет вливания дополнительных государственных средств, а за счет «оптимизации», в результате которой в вузах будет сокращено до 44 % преподавательских ставок. Частично это объяснялось прогнозируемым уменьшением количества поступающих в вузы.2
Так открылся новый период ускоренных реформ высшего образования. Эта книга рассказывает о том, как реформы повлияли на положение преподавателей вузов, и о коллективных усилиях некоторой их части объединиться в независимый профсоюз для защиты своих профессиональных интересов и представления о том, каким должно быть высшее образование.
Помимо интереса, присущего теме книги, исследование этой конкретной стороны социальной политики государства позволяет лучше понять природу самого российского государства, а также состояние «гражданского общества» России, в частности, класса эксплуатируемых трудящихся, к которому относятся и преподаватели вузов (пусть, может быть, не всегда осознавая это).
Политика, которую проводит российское правительство в сфере образования, присуща не только России. За последние несколько десятилетий схожая политика, в той или иной степени и форме, проводится во многих странах. Зарубежные преподаватели вузов, которые будут читать эту книгу, наверно узнают похожие тенденции в своей стране и в своем вузе. Однако редко они приобретают столь гротескную и разрушительную форму, как в России.
Неолиберализм, какими бы ни были его идеологические оправдания, является по сути политикой буржуазии, когда она не сталкивается с действенным сопротивлением трудящихся3. В России есть сопротивление, но по историческим и современным причинам оно весьма слабое. Поэтому обстановка, сложившаяся в сфере высшего образования, может послужить предостережением всем тем, кто разделяет гуманистическое представление о высшем образовании.
Данное исследование проводилось на протяжении нескольких лет, в том числе в течение довольно длительных пребываний в России, во время которых я проводил интервью и многочисленные неформальные беседы с университетскими преподавателями и профсоюзными активистами. Я также участвовал в образовательной деятельности их профсоюза, в профсоюзных встречах, конференциях и протестах. В этой книге используются как правительственные, так и профсоюзные документы, опубликованные научные исследования, а также публикации в СМИ и сообщения в социальных сетях.
Поскольку я не считаю возможным нейтрально относиться к существенным проблемам классового общества, полагаю необходимым представить собственную идеологическую позицию. Я член профсоюза Квебекского университета в Монреале, первого профсоюза преподавателей вузов Канады, и активно участвую в его борьбе за права преподавателей и гуманистическое видение высшего образования. В России я много лет принимаю участие в образовательной деятельности Школы трудовой демократии им. Г.Я. Ракитской.
Несмотря на свои идеологические убеждения, я старался в этом исследовании использовать все доступные мне материалы, не выбирая и не искажая факты в угоду предвзятой позиции.
Февраль 2020 г.
2. Краткий исторический обзор государственной политики в сфере высшего образования
2.1 Советский период4
В советском обществе к преподавателям университетов относились с уважением, а само преподавание в университете считалась престижной профессией. В этой экономически относительно эгалитарной системе (даже учитывая материальные привилегии номенклатуры) зарплата доцента, самой многочисленной категории преподавательского состава, была примерно в два раза выше средней зарплаты. Кроме того, доцент мог рассчитывать на получение квартиры. Профессор получал в два раза больше доцента.5 Премиальная часть зарплаты была сравнительно невелика и стабильна.
Хотя от преподавателей обычно ожидалась некоторая публикационная деятельность, большинство университетов, за исключением нескольких элитных учреждений, занимались преимущественно преподавательской деятельностью, а более серьезные исследования проводились в институтах Академии наук. Таким образом, если аудиторная нагрузка была относительно большой -300 и более академических часов6 у доцента (и 120–150 у профессора), с ней можно было справиться. В некоторых вузах, таких как МГУ, каждый четвертый семестр освобождался для исследовательской деятельности.
Оглядываясь в 2017 г. на советский период, В. Афанасьева, в то время профессор философии Саратовского государственного университета, вспоминает: «Но ведь когда в восьмидесятых я задумывалась о карьере, быть профессором было не только интересно и почетно, но и очень практично. В самом деле, занимался профессор любимым делом; работал с виду совсем немного (часа эдак три в неделю), а зарплату получал как норильский шахтер; мог позволить себе кооператив в центре города и дачу на Волге, а за отпускными приходил в кассу с чемоданчиком – в портфель деньги не поместились бы. Профессоров уважали, их почитали, о них рассказывали легенды, каждый из них был уникален, неповторим и поэтому любим».7
В Советском Союзе не было концепции «tenure».8 Но если преподаватель получал должность, он мог рассчитывать на то, что останется в вузе в течение всей жизни, если только не будет высказываться против политики или идеологии властей. Членство в партии, добиться которого представителям интеллигенции в поздний период существования Советского Союза было нелегко (в отличие от рабочих, которые подчас отказывались от настойчивых приглашений вступить в партию), было обязательным для преподавателей идеологически чувствительных дисциплин, таких как экономика, история или философия, находившихся под строгим политическим контролем. Социология, запрещенная при Сталине, возродилась после его смерти, но не как теоретическая, а, скорее, как прикладная дисциплина (сбор фактов и их обработка). Все социологические исследования в СССР проводились по разрешению либо парторганов, либо КГБ. Ничего похожего на свободно задуманные и свободно осуществлённые социологические измерения не существовало. В СССР была строгая цензура, и не существовало возможности своими силами тиражировать какой-либо текст, в том числе и сугубо научный. Курсы лекций по изучению марксизма (казенной его версии) и по истории партии были обязательными для студентов всех дисциплин.
Власть в системе образования, как и во всех социальных и политических сферах, была сильно централизованной. Организационные и финансовые решения принимались централизованно и исполнялись под контролем. В университетах и более специализированных вузах, подчинявшихся различным отраслевым министерствам, сильное базисное образование сочеталось со специализированным обучением, готовившим студентов к будущей работе. Обучение было бесплатным, а студенты, которые хорошо учились, получали стипендию, в дополнение к которой часто можно было найти подработку летом. Работа по специальности по окончании вуза была гарантирована благодаря государственному распределению, но зачастую в неблагоприятных условиях и с низким заработком9.
Преподаватели вузов, если только они не являлись членами парткомитета учреждения или не занимали административных должностей, не участвовали в принятии важных решений. Самые важные решения принимались не в вузах, а центральными органами, в том числе решения о дисциплинах и предметах преподавания, квотах на зачисление студентов в вуз, образовательных стандартах, рабочей нагрузке и вознаграждении труда.
Членами Профсоюза работников народного образования, высшей школы и научных учреждений были все, кто работал в этой сфере, в том числе и начальство. Эта организация была на практике составной частью государственного аппарата и администрации вуза. Основная его деятельность сводилась к распределению социальных благ. Во время горбачевской перестройки государственный контроль над образованием был несколько смягчен, но профсоюз так и не стал самостоятельным и не изменил своей основной функции.
Октябрьская революция открыла доступ к высшему образованию детям и взрослым из рабочей и крестьянской среды. Хотя главный акцент власть делала на роли образования в формировании квалифицированной рабочей силы для экономического развития страны, она в то же время подчеркивала его гуманистическую миссию духовного развития личности и общества в целом10. Негативной стороной проповедуемого гуманизма была неприкрытая «идеологизация»11 высшего образования, которая включала обязательные занятия по казенному «марксизму-ленинизму», истории компартии, и тому подобному.
В советское время родители зачастую вкладывали значительную энергию и материальные ресурсы для того, чтобы обеспечить своим детям доступ к высшему образованию, которое в широких массах считалось престижной целью. Было широко распространено вечернее и заочное образование, предоставлялись особые условия для рабочей молодежи, поступившей на такую форму обучения. Студенты интересовались прежде всего учебой, а не тем, чтобы найти высокооплачиваемую работу (на производстве работа, не требовавшая высшего образования, зачастую оплачивалась лучше). Для тех, кто учился на дневном отделении, университетские годы стали одним из самых запоминающихся периодов их жизни, а дружба, начавшаяся в эти годы, часто длилась всю жизнь.
С другой стороны, студенческая молодёжь была организована в Комсомоле – тоталитарную молодёжную организацию. Комсомол давал пространство для приложения молодёжного энтузиазма, но и зорко контролировал политические взгляды и идеи. Комсомол использовался для подавления не только инакомыслия в молодёжной среде, но зачастую и просто «нестандартности», индивидуальности студентов.
2.2 «Лихие девяностые»12
Десятилетие правления Бориса Ельцина, первого президента Российской Федерации, широко известно как «лихие девяностые». Это был период «первоначального накопления», т. е. насильственного отчуждения трудящихся от средств их существования, которые, согласно Конституции, унаследованной от Советского Союза, были общенародной или колхозно-кооперативной собственностью. Стремительная приватизация экономики в 90-е годы приняла форму массового грабежа, к которому власть не только спокойно относилась, но и активно ему содействовала13.
Новое российское государство формально было и по-прежнему остается демократией. Но после ельцинского переворота и расстрела Верховного Совета (он был тогда доминирующим государственным учреждением) в октябре 1993 г. исполнительная власть освободилась от внешнего контроля. При режиме «управляемой демократии» относительно терпимое отношение власти к гражданским свободам (они все-таки еще значительны на фоне российской истории) зависит от невмешательства граждан в свободу действия власти в вопросах, которые она считает важными.
«Шоковая терапия», политика форсированного, стремительного перехода к капитализму при активной поддержке стран «большой семерки» и их международных финансовых организаций ввергла Россию в самую глубокую и продолжительную депрессию, когда-либо испытанную промышленной страной14. Власть упорно проводила этот курс на протяжении всех 90-х, несмотря на тяжелейшие его последствия для народа, который не способен был оказать действенное сопротивление.
К 1998 году реальный ВВП снизился до 27,9 % от уровня 1991 года. Доходы населения катастрофически упали вместе с расходами государства на социальные нужды. В этот период расходы правительства на высшее образование, как части ВВП, сократились с 1,21 % до 0,04 %; финансирование на долю каждого студента уменьшилось на 70 % по сравнению с концом 1980-х гг15. Кроме обвального снижения реальных зарплат преподавателей, вузы старались выжить, привлекая различные формы негосударственного финансирования: платных студентов, коммерческое использование недвижимости, оказание услуг, получение грантов от частных источников. Эти виды деятельности были разрешены Законом об образовании 1992-го года, который разрешил и создание частных вузов.
В этих условиях централизованное управление образованием советского периода вынужденно уступило дорогу широкой децентрализации и расширенной автономии образовательных учреждений – другой возможности выжить у вузов не было16. Только в середине следующего десятилетия государство стало снова активно вмешиваться в сферу высшего образования.
Для преподавательского состава вузов свобода преподавания, исследовательской деятельности и публикаций была главным положительным результатом разрушения советской системы. Хотя формально по-прежнему требовалось одобрение программ сверху, на практике преподаватели учили по своему усмотрению. «Это был период полной свободы – делай, что хочешь, – вспоминает Е. Красикова, преподавательница экономики Московского государственного университета. – Это было самое интересное и творческое время. Я написала учебник, который выдержал три издания. Было много интересных точек зрения, дискуссий, аргументов. Было интересно!» «С интеллектуальной точки зрения, 1990-е были лучшими годами моей жизни, – вспоминает преподаватель философии Санкт-Петербургского горного университета. – Мы получили доступ к книгам и переводам и могли преподавать и говорить, что хотели, не боясь».
Эта новая интеллектуальная свобода имела особое значение для преподавателей гуманитарных и общественных наук, поскольку естественные науки подвергались более слабому идеологическому контролю в Советском Союзе. Изменения этого периода также позволили до некоторой степени расширить участие преподавателей в управлении университетом, главным образом в выборах заведующих кафедрами, деканов факультетов и ректоров, а также в решениях, касающихся приема на работу и повышения в должности17.
В начале 1990-х гг. были введены конкурсы на должности преподавателей вузов. Формально замещение должности преподавателя сроком на пять лет осуществлялось через открытый конкурс, на основании которого кафедры давали рекомендации избранному ученому совету вуза. На практике конкурсы в этот период были формальностью, и преподаватели могли рассчитывать на сохранение своей должности. Кафедры также имели решающее слово при продвижении коллег по службе.
Оборотной стороной этой вновь обретенной свободы и возможности участвовать в управлении было резкое снижение заработной платы преподавателей. Средняя зарплата преподавателя университета в 2000 г. была всего 1226 рублей (около $4 °CША)18. Кроме того, выплата зарплаты в 1990-е годы часто задерживалась, иногда на нескольких недель и даже месяцев – это при гиперинфляции и отсутствии индексации. Преподаватель московского вуза вспоминает, что «оклад был таким оскорбительно низким, что едва хватало на транспорт до университета и обратно». Многие из тех, у кого имелись лучшие возможности, уходили из университета.
Те, кто оставались, выживали разными способами, например, жили на доход супруга или супруги или сдавали свою квартиру, а сами жили на даче. Но главным средством выживания были дополнительные занятия, проводимые иногда в своем вузе, но чаще всего по совместительству в других университетах. Такое стало возможным потому, что многие преподаватели вообще ушли из профессии, в то время как количество поступивших в вузы стало стремительно расти с середины 1990-х и увеличилось почти в три раза к 2008 году (чему способствовало введение платного обучения в государственных университетах и расширение частных университетов)19. Многие преподаватели зарабатывали тем, что готовили старшеклассников к вступительным экзаменам в университет. Другие занимались консалтингом или подрабатывали в сфере бизнеса. Эта дополнительная работа сказывалась на качестве жизни преподавателей и на качестве их преподавания, но ситуация была более или менее терпимой, так как преподавательская нагрузка была еще относительно невысокой. Однако за пределами крупных городов возможности подработать были гораздо более ограниченными.
Падение заработной платы сопровождалось снижением престижа профессии преподавателя и деморализацией значительной их части. Самоуважение преподавателей страдало от их абсолютной нищеты и невозможности добросовестно выполнять свою работу. Происходило всеобщее снижение академических стандартов, что проявлялось зачастую в низком качестве диссертаций и в практике написания диссертаций, курсовых и дипломных работ за плату. Плагиат в диссертациях стал распространенным явлением, в авангарде которого стояли различные высокопоставленные правительственные чиновники и депутаты, стремящиеся получить ученую степень. Иностранные гранты также вносили свой вклад в деморализацию преподавателей и ученых. Они помогали выжить, но оказывали определенное влияние на выводы исследований. В условиях ельцинской "шоковой терапии" моральная высота была утрачена многими преподавателями.
Изменилось также отношение молодежи к высшему образованию. В советское время студенты часто идеалистически объясняли свое стремление получить высшее образование желанием реализовать себя и внести вклад в общественный прогресс. Однако в 1990-е годы главным стало зарабатывание денег, а университетский диплом многими стал рассматриваться в основном как средство найти более оплачиваемую работу20. Качество образования было в лучшем случае на втором месте. Таким же зачастую было и отношение работодателей к качеству образования21. Для молодежи призывного возраста дополнительной мотивацией получения высшего образования стало желание избежать или хотя бы отсрочить службу в армии.
Поскольку учителя средней школы испытывали те же экономические трудности и были вынуждены брать дополнительную работу, уровень подготовки учащихся к учебе в университете резко упал. Преподаватель экономики Б. Ракитский вспоминал об этом периоде: «Видимо, в старших классах они ничего не учили об устройстве общества. Меня это шокировало. Я стал рассказывать о самых простых вещах, и эти молодые ребята быстро достали блокноты и стали записывать. Так что какое-то желание учиться у них было. Но не было основы. У меня было такое впечатление, что у них совсем не было никаких знаний. Это было в середине 1990-х».
После крушения Советского Союза в результате «революции сверху» у университетских преподавателей, как и практически у всего российского общества, отсутствовали опыт и традиции объединения в независимые организации для защиты своих профессиональных и иных интересов. Недавно обретенные свобода и возможность участвовать в университетском управлении попали в руки преподавателей без какой-либо борьбы. В то же время им вдруг пришлось бороться за физическое выживание, ситуация незнакомая советским гражданам. Это ведь была одна из негласных целей «шоковой терапии»: предотвращение эффективной оппозиции реформам22. Эта цель была успешно реализована и в отношении преподавателей вузов. Что касается Профсоюза работников образования и науки, унаследованного от Советского Союза, он продолжал, как и прежде, послушно одобрять все решения властей и университетских администраций.
https://www.kp.ru/daily/26655.5/3676180/