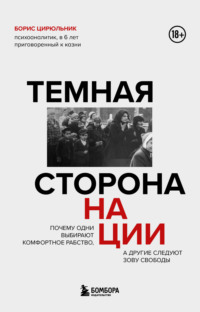Buch lesen: "Темная сторона нации. Почему одни выбирают комфортное рабство, а другие следуют зову свободы"

Автор книги – французский нейропсихиатр Борис Цирюльник, его предки были из Украины и Польши. В детстве он пережил оккупацию и чуть не угодил в нацистскую мясорубку, в которой сгинули его родители. Книга «Темная сторона нации» – автобиографичное, проведенное отчасти на своем собственном травматичном опыте исследование, как работает машина принятия решений и способности к поступкам. Как растворены в мире добро и зло? Действительно ли чудовищность банальна и спит в каждом из нас? Что важнее – моральная ценность самореализации или социальный порядок? Лучше быть уверенным или сомневающимся?
Это не набор советов, как уцелеть в воронке архаики и самоуничтожения, затягивающей человечество в пучину хаоса, уничтожающей завоевания человеческой культуры и борьбы за цивилизацию. Это, скорее, попытка проговорить пережитое, которым прошита и скреплена ни одна книга Цирюльника.
Правда, отвергая «ясность мыслей» и «интеллектуальный коллективизм», автор попадает в довольно известную политическую ловушку, сваливая воедино ультраконсерватизм и радикальный модернизм, правых радикалов с левыми, а хунвейбинов Мао с американскими солдатами, оккупировавшими Вьетнам. В этой части он оказался на одной волне с Джорджем Оруэллом, который часто не видел граней между полярными взглядами, оставаясь «свободным» от них. Но так уж ли свободным?
Антуан Касс, журналист, расследователь, исторический, научпоп и культурный обозреватель, соавтор книги «Феномен российских маньяков»
Подготовить детей к войне
Немцы, представители высшей расы, внушали ужас, а после поражения превратились в добрых приятелей. Мне было семь лет, когда я стал свидетелем их преображения.
В 1941 году немецкие войска победно вошли в Бордо. Какое великолепное было зрелище! Каска к каске, штык к штыку, безупречно ровные ряды марширующих – все это производило впечатление несокрушимой мощи. Красивые лошади в сбруе с красными перьями, звуки военного оркестра, завораживающие ритмы барабанов – впечатление колоссальной силы. Люди вокруг меня плакали.
Четыре года оккупации по улицам курсировали патрули и действовали различные запреты, ночами проводили облавы, а людей арестовывали прямо на улице, пока немцы не отошли в Кастийон-ла-Батай. Они взяли город, расставили часовых по наблюдательным пунктам, а на въездах выставили заставы. К счастью, французские франтиреры1 и партизанские отряды коммунистов объединились с Французскими внутренними силами, которые состояли из сторонников де Голля, и немецкий батальон попал в окружение. В 1944 году его командир понял, что нацистский режим проиграл войну и дальнейшие боевые действия приведут лишь к бессмысленным жертвам. Чтобы защитить людей, немцы сложили оружие.
Я услышал слово «капитуляция», в переводе на понятный всем язык «Да хватит уже этой войны!», и она была подписана. Так грозные представители высшей расы стали простыми славными ребятами. Я видел, как на городскую площадь согнали сотни немецких солдат, они с опущенной головой шли друг за другом и складывали оружие. В расстегнутых кителях, грязные, заросшие бородой, они смотрели под ноги и молча садились на землю.
После перемирия, у крестьян стали трудиться военнопленные гордые воины-арийцы. Они обнажились по пояс и взялись возделывать виноградники, ухаживать за скотиной. Болтали с прохожими и подавали знаки детям, разговаривали с ними то ли на французском, то ли на немецком, – сейчас уж не вспомнить. Теперь эти люди мне больше не казались страшными. Они с улыбкой срывали для нас фрукты с веток, до которых мы не могли дотянуться.
«Война окончена» – одной фразы, этих двух слов и подписи оказалось достаточно для изменений, произошедших в умах. Немцев больше не боялись. Участники Сопротивления защищали их от обид и оскорблений, а обидчиков призывали к соблюдению приличий. Для меня, тогда еще ребенка, казалось возможным сначала ненавидеть и убивать друг друга, а потом внезапно поменять образ мыслей.
Чтобы увидеть мир под другим углом, достаточно одного слова.
Именно в детстве мы задаемся фундаментальными вопросами, с которыми затем будет связана наша жизнь. С возрастом понимаешь: двух-трех слов достаточно, чтобы задать вектор жизненному пути.
Не лучшее это было время для появления на свет. Себастьян родился в Берлине в 1907 году, я – в Бордо в 1937 году. Детство у нас прошло одинаково. Наши страны готовились к войне, и дискурс в окружении предопределял для нас лагерь. «Мы не могли обмениваться мнениями с собеседниками, разговаривая на разных языках. Звучали новые выражения, такие как „фанатическая приверженность, братья по расе, возвращение к земле, дегенеративность, недочеловек“».
Когда мне было пять лет, я начал разговаривать. Помню, мать сказала мне: «Нельзя говорить с немцами, не то нас арестуют».
Когда слова превращаются в оружие, самозащитой становится молчание.
В шесть лет в ночь на 10 января меня арестовали. Из речи офицера гестапо я узнал об опасных людях низшей расы и что во имя морали их следовало убить.
Моему товарищу Себастьяну в конце Первой мировой войны было 11 лет. Он застал момент рождения «поколения нацизма»: война, которую люди пережили в детстве, воспринималась большой игрой, а действительность не вызывала тревоги. Рассказы о подвигах, страшных сражениях и искупительном самопожертвовании, о воинах, сражающихся в исступлении, очаровывали. Какое величие души, какое благородство! Те же, кто познал реальность темных военных лет, безмолвные страдания, униженное положение голодающих, боль скорбящих, мучения израненных душ, предпочитали молчать, чтобы не бередить раны.
И Себастьян, и я оказались изумленными свидетелями возникновения двух духоподъемных дискурсов: энергичной пропаганды нацистов 1930-х годов и благородной риторики коммунистов после 1945 года. Мы в детстве столкнулись с войной и близостью смерти и понимали, что эти два дискурса правили умами людей. Прекрасные или безобразные образы создавали с помощью будоражащих сознание слов: героизм, победа народа, чистота расы, тысяча лет счастья, светлое будущее. Пылающие фразы уводили нас от реальности.
В 1918 году Себастьяну было 11 лет, в 1945 году мне было восемь лет, и мы оба предпочитали выражения, которые доставляют скрытое наслаждение. Их обычно произносят пытливые умы, открывшие для себя мир и познавшие реальность на вкус.
Пафос утопии противостоит удовольствиям. Созидатели находят их для себя в богатстве обыденности. Те, кто восхищаются грандиозным, не обременены неудобными вопросами,
а предпочитают цельность эйфории. Она отбрасывает реальность и оставляет «логику безумия», систематизированный бред такой яркости, что он ослепляет разум, мешает появлению вопросов и пресекает любые сомнения, способные снизить градус логического бреда.
Дети неизбежно поддаются такому понятному дискурсу. Им для развития мышления нужны бинарные категории: все, что нельзя назвать хорошим, – плохо, все, что нельзя считать большим, – маленькое, кто не женщина – тот мужчина. Предельно четкое разделение формирует привязанность к матери, отцу, религии, школьным товарищам, двору своего дома и дает чувство безопасности. В этой отправной точке формируется первая картина мира и чувство уверенности в себе, это помогает найти свое место в семье и культуре.
Будьте внимательны: речь идет об отправной точке. Когда основы обносят изгородью, они мешают поиску иных объяснений и превращаются в клановое мышление, безапелляционную убежденность: «Можно только так и не иначе… лишь безумец может думать по-другому». Безграничная приверженность питает уверенность в себе и подавляет мысль. Именно это и происходит с фанатиками.
Повторение делает изменения невозможными.
Клановое мышление защищает личность и приводит в восторг душу, доставляет безумное счастье тем, кто готовится пойти войной на инакомыслящих. Войны из-за убеждений – явление неизбежное.
Для получения опыта человеческого общения нужна уверенность в себе, на этом построены манипуляции всех тоталитарных режимов. «Я расскажу вам правду, единственную правду, – говорит Спаситель. – Следуйте за мной, повинуйтесь мне и сыщете славу, принесете счастье своим сородичам». Сложно не поверить такому заявлению. «Несчастье постигнет всех, кто противится нашему счастью, – говорит Спаситель. – Те, кто думает иначе и молится иному богу, желают нам несчастья, потому что нарушают нашу уверенность».
Нередко дети, чьими юными душами овладевают диктаторские режимы, восстают против родителей. Своими вопросами, сомнениями и вниманием к деталям взрослые гасят энтузиазм и разбивают мечты.
Один мальчик говорил: «Я был возмущен. Я не понимал, почему отец не вступил в национал-социалистическую партию, чтобы обеспечить всей семье столько привилегий?!» А вот слова маленькой Аннели, очарованной девушками из Гитлерюгенд: «Я хотела вырасти и носить такую же форму, как у двоюродных сестер Эрны и Лизль. Они устраивали праздники, читали стихи, а я из-за родителей была лишена этой радости».
Психический мир человека всю жизнь расширяется.
В первые недели формирования мозга ребенка в утробе матери он обрабатывает только похожие информационные сигналы. Эмбрион вырабатывает гормоны, они взаимодействуют с гормонами матери, и это влияет на развитие конкретных органов. К концу беременности мир эмбриона обогащается настолько, что он через воздействие гормонов стресса (кортизол, катехоламины) или счастья (эндорфины, окситоцин) воспринимает эмоции матери. После появления на свет младенцы узнают мать и отца, объекты привязанности, по отдельным признакам: глаза по их блеску, голос, движения.
Начиная с третьего года, ребенку открывается мир слов и его психический мир углубляется. Сначала слова обозначают ситуативные предметы (мяч, соска), но постепенно усложняются (пойдем на прогулку). К возрасту пяти-шести лет у мозга формируется представление о времени, ребенок способен рассказать историю. Теперь он может составлять фразы с невоспринимаемыми предметами, событиями или понятиями: битва, проигранная тысячу лет назад, славное или наоборот постыдное происхождение.
Рассказ об окружающем мире формирует индивидуальность («я родом из Сен-Луи»), чувство гордости («я бретонец»), стыда («мой отец был пособником нацистов») или логический бред («я принадлежу к высшей расе, потому что у меня русые волосы и голубые глаза»).
На стадии самореализации ребенок разделяет убеждения тех, кто его защищает и наставляет на пути развития.
Он вбирает в себя ценности тех, к кому привязан.
Когда родительский дискурс соответствует общественному, молодые люди активно проявляют себя в обществе. Если в других институциях – школе, церкви, политической партии или секте – представляется иная точка зрения, а члены семьи придерживаются разных убеждений, семейные связи в результате разногласий ослабевают. Так произошло с маленькой Аннели: она мечтала вступить в ряды Гитлерюгенд, а родители выступали против.
К возрасту семи-десяти лет тоталитарная культура предлагает ребенку прекрасные поощрения и может предоставить то, что ему нужно: «Я бы носила форму, как Эрна и Лизль, мы бы танцевали и общались с русыми детками, которые принесут нашему народу тысячу лет счастья». Когда подобный культурный дискурс завоевывает детские сердца, любое замечание, любая оценка разочаровывает. Одержимые тоталитарным дискурсом молодые люди, будь то члены Гитлерюгенд или молодые джихадисты, без колебания донесут властям на родителей.
Когда психический мир детей сопоставим с миром их родителей, в противостоянии тоталитарному дискурсу они становятся единомышленниками.
Виолетта, врач в Тимишоаре2, вышла замуж за однокурсника. Во времена Чаушеску (1918–1989) в Румынии признавались только церемонии гражданского бракосочетания. В браке родились две дочери, но Виолетта была православной и не чувствовала, что перед Богом они муж и жена. Семья поехала в Карпаты, нашла церковь и священника. Дочери не были верующими, но из-за тотальной слежки им казалось, что на их одежде отличительный номер, по которому их могли вычислить в церкви. Любой мог позвонить в полицию и продиктовать цифры. На следующий день к родителям бы пришли с проверкой, установили слежку и запретили перемещения. Все венчание девочки не находили себе места, но тайну не выдали. Соучастие в нарушении сплотило семью, противопоставило ее режиму Чаушеску.
Любить негодяя
В 1945 году после освобождения Франции от нацистов многие дети узнали, что во время войны их отцы сотрудничали с оккупантами. Было сложно приспособиться к противоречивым дискурсам: «Я любила отца как члена семьи, который играл для меня важную роль, но как член общества он был близок к Дорио3», – вспоминает Мари о своем детстве. В восемь лет она с изумлением наблюдала восторг матери, когда на одном политическом собрании Дорио, мэр Сен-Дени и депутат от коммунистов, распалял настроение толпы и убеждал создать Французскую народную партию. Она должна была сотрудничать с нацистами и вступить в Легион борьбы французских добровольцев против большевизма в СС.
Задавались ли вы уже вопросом, как ребенок может любить негодяя? Достаточно всего лишь не думать о нем как о негодяе и любить в нем того доброго папеньку, в которого он – Менгеле, Гиммлер и другие – превращается дома.
«Папа хотел, чтобы я хорошо училась в школе», – говорила дочь Пола Пота, которая не могла не знать, что ее «милый папа» закрыл университеты и депортировал преподавателей. В детстве Алессандра Муссолини только и слышала прославления ее деда, фашиста Бенито Муссолини. Как ей не гордиться им?
У Киры Аллилуевой было по-настоящему сказочное детство: с ней играли те, кто отдавал приказы о репрессиях, преступных решениях и депортациях, – играли, а затем подписывали несколько смертных приговоров. Она вспоминала о голодающих, которые просили подаяния, и удивилась аресту ее матери. Кира не поняла, как она сама, беззаботная молодая актриса, оказалась в тюрьме.
Мао Синьюй, внук Мао Цзэдуна, писал книги, восхваляющие деда. Старшая дочь Саддама Хусейна, Рагад, говорила: «Я горжусь, что этот человек – мой отец».
Другие дети ненавидели своих отцов еще до того, как узнали об их преступных делах. Дочь Фиделя Кастро не знала, кто ее отец. Он никогда не появлялся дома, а мать даже имени его не называла. Только в 12 лет девочка узнала: ее отец – Фидель Кастро. Никлас Франк в детстве не знал, что его отец в апреле 1943 года огнеметами сжег выживших в Варшавском гетто. Никлас и без того принимал сторону матери, с ненавистью говорившей об отце. Любовь или ненависть, которые преступники вызывали у своих детей, формировались не на фактах, а на мнении окружающих.
Развиваясь, ребенок сначала воспринимает прикосновения и эмоции матери. К третьему году жизни, с развитием речи, а затем к шестому году, когда малыш может строить рассказ, он погружается в мир окружающих его слов. Поэтому дети легко овладевают родным языком и принимают сформированные в нем убеждения.
Нас всех определяет то, что нам сообщает наше окружение.
Мы достигаем внутренней свободы, вступая на путь достижения автономии. Так мы можем судить, оценивать, принимать или отвергать предлагаемый нам дискурс.
Для некоторых людей принадлежность к некой группе настолько важна, что они полностью и безоценочно принимают дискурс этой группы, и любая критика ослабляет мобилизующую потребность в принадлежности. Другие, наоборот, благодаря чувству защищенности, которое им дала мама, настолько уверены в себе, что решаются добиваться автономии.
Те, для кого важна принадлежность, находят удовольствие в цитировании общепринятых мнений как чудесных аксиом, они уверены в «логике безумия», описанной Ханной Арендт. Те же, кто предпочитает продолжать поиск самостоятельно, без влияния окружающих, избирают путь созидателя. Они сбивают ноги в кровь о камни, прикасаются руками к земле и истинно радуются пониманию. В состоянии эйфории счастье захватывает дух и уносит его далеко-далеко в область безосновательных рассуждений, именуемых «логическим бредом».
Знание, подтвержденное эмпирически – источник счастья для созидателя.
Это знание можно пощупать, попробовать на вкус и услышать, как делает практик, работающий на земле. При этом эйфория очаровывает душу и ведет к утопии.
Виды познания становятся враждебными. Под властью заученных изречений, оторванных от жизни, охваченные эйфорией горят желанием умереть за невидимую сущность из священных текстов. Созидатели, напротив, не могут подчиниться идеальному представлению, в котором заключена вся истина. Они знают, что земля может как засыхать, так и становиться топкой жижей, им нравится улавливать оттенки в проявлениях реальной жизни, пусть и не безупречной.