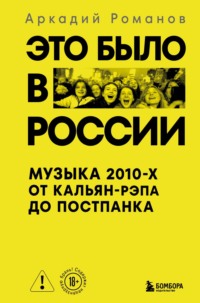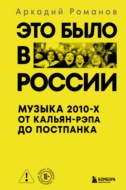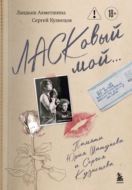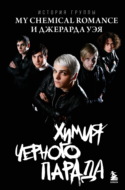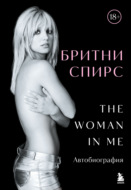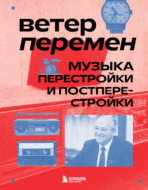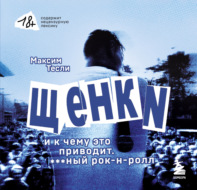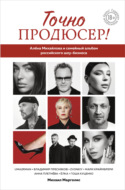Buch lesen: "Это было в России. Музыка 2010-х от кальян-рэпа до постпанка"
Серия «Поп-культ: музыканты, покорившие чарты и сердца»

© Аркадий Романов, текст, 2025
© Алексей Пирязев, фото для обложки, 2025
© Алина Котылевская, дизайн закладок, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Пролог
Мне с трудом в это верится, но прямо сейчас растут дети, для которых автор песни «Бургер» – старичок из прошлого, а не дерзкий фрешмен. Вообразите себе поколение, для которого 2010-е – не воспоминание, а историческая эпоха. По своему духу десятые уже отличаются от двадцатых сильнее, чем девяностые отличались от нулевых. И вы сами знаете почему.
Пока никто не зафиксировал на бумаге музыкальную историю десятилетия с обзором главных личностей, событий и альбомов. Есть сотни видео на YouTube, тысячи статей в телеграм-каналах, а книги нет. Не нужно быть великим писателем или гением музыкальной критики, чтобы исправить ситуацию. Достаточно просто сесть и написать такую книгу.
Вот уже несколько лет я работаю лектором в «Правом Полушарии Интроверта». Мои лекции в приложении этого сервиса каждый день смотрят сотни людей. В формате видеолекций я последовательно рассказывал историю многих десятилетий. Теперь пришел черед 2010-х.
Я хочу охватить самые разные жанры и стили: от кальян-рэпа до постпанка. Поэтому единственным возможным решением будет рассказывать о каждом из артистов максимально емко. Эта книга поможет составить представление о происходившем на русскоязычной музыкальной сцене в 2010-е годы. Она упорядочит ход событий и разложит прошлое по полочкам, а для кого-то (надеюсь) расскажет что-то принципиально новое.
Все, что вы здесь прочтете, – мое личное мнение, оценка и интерпретация тех или иных событий. Спустя годы обозреватели, критики да и просто слушатели будут лучше понимать, какие музыкальные тенденции и явления 2010-х были достойны внимания, а какие остались лишь приметой эпохи. Время все расставит на свои места. Но, пока мои собственные воспоминания и впечатления о том периоде свежи, я самонадеянно считаю, что смогу лучше передать дух этого времени. Тот же баттл-рэп на моих глазах превратился из жанра, которым брезговали снобы и «люди с хорошим вкусом», в главное музыкальное явление декады. Сегодня баттл-рэп не только мертв, но и невозможен в том формате, в каком я его застал. Я лично знал многих героев этой книги. К сожалению, некоторые из них уже мертвы.
Это история русскоязычной музыки из России, поэтому здесь почти не будет затрагиваться музыка из России не на русском языке (к примеру, татарская и якутская сцены). Без упоминания Ивана Дорна, Макса Коржа или Скриптонита мне не обойтись, но и углубляться в украинскую, белорусскую или казахскую музыкальную индустрию я не стану.
В книге пойдет речь о песенной форме музыкального искусства. Я обязательно расскажу про техно и витч-хаус как явления, но не буду делать разбор каждого электронного музыканта с лейбла «ГОСТ Звук». Для анализа электронной или джазовой сцены нужны отдельные работы, так же как и для метала и его экстремальных подвидов.
И наконец, я хочу сделать акцент на исполнителях, которые олицетворяли собой новый звук и новое слово. Касаться ветеранов сцены и их альбомов (которые выходили в 2010-е и могут представлять интерес) я буду реже. Хотя без этого все равно не обойтись.
Рэп являлся главным жанром в России 2010-х – простите, что ему будет уделяться здесь больше внимания. Я и сам был рэпером. Это профдеформация.
В общем-то, я написал историю России тех лет, но с музыкальной точки зрения. Историю эпохи, свидетелем которой я был. На сегодняшний день многие мои соотечественники разбросаны по миру. Эта книга как для них, так и для тех, кто остался.
Великое разделение нулевых
Прежде чем рассказать историю 2010-х, давайте вспомним, чем для России были 2000-е.
В нулевые старые медиа торжествовали. Музыка заняла свою коммерческую нишу: от утвержденных радио– и телемонополий до легальной дистрибуции кассет и дисков. В каком бы жанре артист ни работал, он оставался заложником сложившихся правил игры – их задавал ему постсоветский шоу-бизнес. Музыка сегрегировала людей не только по их вкусам, но и по социальному происхождению: «Русское радио» и «Радио шансон» вещали для поклонников эстрады (кто-то бы презрительно сказал «для глубинного народа»), «Авторадио» – для ностальгирующих по СССР и дискотеке 1980-х, «Наше радио» – для ценителей почвеннического русского рока. Многие ловили частоты с англоязычной популярной или танцевальной музыкой. Музыка, которая по каким-либо критериям не подходила радиостанции с точки зрения ее руководства и продюсеров, просто там не звучала.
«MTV Россия» давал русской молодежи возможность спрятаться от русской реальности. Сбежать через экран в зарубежные поп-панк клипы или американские развлекательные шоу. Другие отечественные телеканалы в основном крутили попсу. В 2005 году заработал «первый альтернативный» канал A-One. Он помог в продвижении многим альтернативным группам. Однако большинство из них сформировалось еще в конце 1990-х в клубной питерской среде (Jane Air, Animal Jazz, AMATORY). В случае A-One речь не шла о генерации каких-то новых талантов, скорее – о поддержке бывалых обитателей андеграунда. Его вещание не разрушило загоны, а соорудило новые – на этот раз для «нефоров».
Так «загончик» следовал за «загончиком». Хипстеры из Москвы получали свой «Пикник Афиши». Слушатели «Нашего радио» возюкались в грязи на очередном «Нашествии». Рейверы тусовались в клубах Москвы или отправлялись на легендарный «Казантип» в Крым. Но все эти миры существовали как бы в отрыве друг от друга.
Большие медиа, продюсерские центры и телевизионные реалити-шоу создавали знаменитостей («Фабрика звезд»), а любое заметное явление русской музыки имело свою понятную целевую аудиторию. Децл был для подростков – фанатов хип-хопа, Юлия Савичева и МакSим – для девочек-подростков, «Ранетки» – для очень маленьких девочек-подростков, Григорий Лепс, Стас Михайлов и Елена Ваенга – для их родителей, «Звери» – для старшеклассниц и студенток первых курсов, Земфира1 и «Би–2»2 – для тех, кого позже назовут «креативным классом». Многие артисты прекрасно отдавали себе отчет в том, что обслуживают конкретную аудиторию – можно вспомнить формулу Сергея Шнурова: «Музыка для мужика – ни тяжела, ни легка». Кому бы удалось более емко описать целевую аудиторию группы «Ленинград» и ее музыку в целом?
Разделены были не только слушатели, но и музыканты. Если речь шла про эстрадных певцов и поп-артистов, то они кормились не только гастролями, но и дорогими корпоративами, съемками в рекламе. Они постоянно мелькали в СМИ и варились в «шоу-бизе». Не всегда защищенные от произвола продюсера или недобросовестности директора, они все равно хорошо зарабатывали.
В то же время надеждой рок-музыкантов и первых русских рэперов была исключительно гастрольная деятельность по России и ближнему зарубежью. Частые гастроли не давали несметных богатств. Скромные роялти с проданных кассет и дисков не позволяли артистам жить исключительно на них: музыкальный рынок был наводнен дешевой пиратской продукцией, привычки «платить за контент» у слушателя еще не было. Частные выступления здесь были не такими, как у королей эстрады. Кто-то принципиально не выступал на корпоративах для «коммерсов», как группа «Король и Шут». А кого-то просто не приглашали на такие мероприятия. Хотя были и исключения: на тот момент маргинальная «Гражданская оборона» Егора Летова выступила на вечеринке основателя «Евросети» Евгения Чичваркина в 2002 году. Бизнесмен, как оказалось, был большим ценителем сибирского панка! А вот козыревское «Наше радио» не ставило в эфир песни группы, не выкупая иронии в песне «Общество “Память”» и идентифицируя их лирику как антисемитскую.
Музыкальная и информационная сегрегация давала о себе знать: на улицах, в общественном транспорте и школах подростки разбивались по субкультурам. Рэперы, скинхеды, готы, металлисты, панки, во второй половине нулевых вместе с интернетом появились эмо. Я до сих пор помню надписи «Децл – лох» или «Рэп – это кал» в пропахших мочой лифтах. Оставляли их фанаты рока и метала, которые частенько выясняли отношения с представителями враждебных субкультур. Примкнуть к одной из них для подростка означало перенять и характерный внешний вид, и систему вкусов и ценностей. Все, лишь бы не быть цивилом (глядя на фотографии обычных людей из нулевых, соглашаешься – лучше было быть готом).
Субкультуры объединяли молодых людей, выстраивали между ними горизонтальные связи, но в тоже время замыкали их в загончик, диктуя, как нужно себя вести в мире и реагировать на других людей. Безусловно, как у старшего поколения, у уличных гопников или простых обывателей некоторые субкультуры могли вызывать неприязнь.
Отечественная сцена 2000-х годов безнадежно отставала от западных музыкальных трендов. Смешная возня между «непримиримыми» жанрами и субкультурами велась параллельно с тем, как в США гремела музыка в духе Linkin Park (где рок и рэп успешно смешивали). Отставание же от западной музыкальной моды в ряде случаев исчислялось десятилетиями. Децл или группа «Каста» среди слушателей русского рэпа считались идейными противоположностями, но их объединяло абсолютно устаревшее звучание. Просто для справки: песни «На порядок выше» группы «Каста» и Without Me Эминема вышли в один год. Неудивительно, что слушатели зарубежного хип-хопа и русского рэпа не всегда пересекались.
«На сегодня эмо – самая модная молодежная субкультура. Тысячи тинейджеров надевают шмотки черного и розового цветов, отращивают челки, красят волосы в черный цвет, подводят глаза… Тысячи других тинейджеров объявляют себя антиэмо, лажают эмо-кидов на форумах в интернете, закидывают перед концертами яйцами, обсыпают мукой».
Владимир Козлов, «Эмо», 2007
Конечно, можно вспомнить один успешный в мире русский-поп-проект – группу t.A.T.u. И да, его успех заключается в удачно подобранном образе на экспорт: «Драйв “Тату” – в надломе, их “Я сошла с ума” – не просто об однополой любви (будто мы не видели однополой любви), а о любви в репрессивном окружении… неслучайно в клипе девочки сбегают не на спортивной, скажем, машине, а на бессмысленно-огромном тоталитарном грузовике», – писал Дмитрий Петровский. Но если бы не качественный продакшен Сергея Галояна, удачно совместившего современные веяния электроники, проект Шаповалова вряд ли обрел бы такую популярность за границей. Даже несмотря на запоминающийся визуальный «контраст подростковой нежности и железной огромности грузовика» в клипе «Нас не догонят». Другой относительно успешный за границей поп-проект Serebro (уже из второй половины нулевых) вышел из-под крыла Макса Фадеева – человека, также славящегося качественной работой со звуком еще со времен сотрудничества с Линдой.
У кого еще в те годы были амбиции обрести слушателя на Западе? У русских инди-групп, поющих на английском языке, пределом мечтаний которых была бы хвалебная статья на Pitchfork и приглашение на заграничный фестиваль. По факту большая их часть играла музыку для нескольких десятков хипстеров (расскажу, кто это, в разделе «Если рвется под кожей зверь») и столичных музыкальных журналистов.
Успешные англоязычные коллективы вроде Pompeya, On-The-Go и Tesla Boy достигнут заметной популярности внутри страны и даже определенной известности на Западе к началу 2010-х годов. Но им это удастся не из-за трансляции за рубеж образов России (как это в нулевые сделали t.A.T.u., в десятые – Little Big3 и IC3рeak), а благодаря успешному мимикрированию под типовую англоязычную инди-группу.
Ни на слух, ни на вид группу On-The-Go было бы невозможно определить как русскую. Она могла появиться где угодно: в Скандинавии, в Германии или в Британии. Ну вот так вышло, что была она из Тольятти (название города – имя итальянского коммуниста, тоже нерусское слово, что забавно). К тому же успех англоязычного инди из России был во многом завязан на интернете. К вышеупомянутым группам он пришел уже в следующем десятилетии.
С наступлением десятых многое изменилось. Конечно, не ровно 1 января 2010 года. Книга имеет строгую рамку: я должен начать свое повествование 2010 годом и закончить 2019-м, но многие важные процессы и перемены произошли еще раньше, в нулевых.
Первое, что приходит на ум, – развитие интернет-форумов и появление там новых типов самоорганизации музыкантов. От обсуждения музыкального оборудования до первых интернет-срачей и онлайн-баттлов. О феномене последних я еще расскажу в других главах, но здесь зафиксируем один факт: ключевые деятели русского хип-хопа, от андеграундного и загадочного Бабангиды до всенародно известных Oxxxymiron'а4 и Noize MC5, получили буст для своей карьеры благодаря онлайн-баттлам, проводившимся на сайте Hip-Hop.ru. Форум заработал в середине 2000 года и долгое время был единственным в рунете местом, где можно было пообщаться поклонникам рэпа. Форумы наладили коммуникацию между разными городами России и установили связь с русскоязычным зарубежьем, позволили всем, у кого есть интернет, не просто выкладывать туда свое творчество, но встраиваться в интернет-комьюнити.
«Среди зарегистрировавшихся в первые месяцы пользователей были Влади и Шым, Струч, Big Som, МС Молодой, Олег OG и ныне известные дизайнеры Zmogk и Бархан. Это сразу задало тон общению, здесь артисты сами публиковали свои новости, делились планами и лишь затем за них это делали лейблы. Здесь они ругались, мирились, выкладывали песни и первые клипы. Здесь же они уставали от слишком близкого контакта со слушателем и рано или поздно покидали hip-hop.ru».
Руслан Муннибаев, 2015
Большие звезды впервые стали рождаться в интернете, хоть для полной легитимации своей значимости им и требовалось получить ротацию на радио и телевидении. Такова была траектория московской группы Centr, прозвучавшей на всю страну с откровенной лирикой, изобилующей «мутками» и осмыслением собственного наркотического опыта. Еще удивительнее было то, что мажоры из центра Москвы, транслирующие снобизм и элитарность, умудрились вдохновить буквально сотни рэперов из русской глубинки делать похожий рэп! Кстати, не всем артистам, сделавшим себе имя благодаря интернету, хотелось записывать радио-френдли хит. Хуже они от этого не стали: 2H Company, Кровосток или Kunteynir тому пример. Важной, но слегка подзабытой сейчас фигурой музыкального рунета 2000-х был бард Захар Май.
Здесь же можно вспомнить про развитие видеотехнологий. С середины нулевых в кармане мог лежать мобильник с видеокамерой, а к концу десятилетия было в порядке вещей снимать концерт любимого исполнителя на телефон. В 2007 году русскоязычный YouTube взрывает самопальный и смешной клип Петра Налича Guitar, и в каком-то смысле даже сам русскоязычный музыкальный YouTube начинается с него. Именно 2010-е превратят эту платформу в новый телевизор и удешевят производство клипов. В YouTube человек будет приходить за новыми видео и открывать новые имена там, а ротация на музыкальном ТВ потеряет свое значение. От самих же клипов теперь будут ждать «мемности» и «вирусности» – таким как раз и был Guitar, кстати, ставший популярным и за рубежом.
Поэтому книга о 2010-х – это история о том, как умерли старые медиа и субкультуры. Как возникли новые правила игры в музыкальной индустрии. Как интернет окончательно сравнял шансы продюсерских проектов и амбициозных самородков из провинции. Как музыканты стали зарабатывать доходами со стримингов: на легальном прослушивании их музыки на платформах в интернете. Как в последние годы доковидной истории России расцвели столичные фестивали и локальные сцены в регионах. Обо всем этом пойдет речь ниже.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.