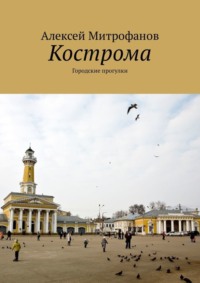Buch lesen: "Кострома. Городские прогулки"
© Алексей Митрофанов, 2018
ISBN 978-5-4493-0779-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Кострома в русской поэзии – явление странное, непостижимое и, я бы сказал, беспокойное.
«А ну-ка, дай жизни, Калуга, ходи веселей, Кострома».
Куда ходи? Зачем ходи? И вообще, что это значит – веселей ходи? В смысле, быстрее, эффективнее, производительнее, да?
«Ах, Самара, сестра моя, Кострома мон амур».
Ага, мон амур. Же не манж па сис жур. Костроме язык французский – как борщу повидло.
«Здорово, Кострома! – Здоровенько!»
Ну, здесь все более-менее понятно.
«А ребята с лукошками, с мышами и кошками шли навстречу ему – в Кострому».
Да, и Ленинград каким-то боком. «Глупый-глупый Кондрат, он один и шагал в Ленинград».
Почему-то Кострома упорно выступает в паре с чем-нибудь еще. Калуга, Самара, Ленинград.
* * *
В действительности, Кострома – гораздо больше, чем все эти припевки, вместе взятые. Один из интереснейших, красивейших и, можно сказать, величайших городов России. Именно сюда, в Ипатьевский монастырь явилось в 1613 году российское боярство – уговаривать юного Михаила Романова оседлать царский трон. Долго тот не соглашался – плакал и отнекивался, отнекивался и плакал. Несколько дней отнекивался и плакал. Но потом все таки согласился.
С тех пор считается, что именно Кострома – родина Дома Романовых.
А еще раньше в Костромских лесах совершил свой подвиг патриот Иван Сусанин. Он завел в болото войско польских интервентов и тем самым погубил его, не пожалев своей собственной жизни.
Костромские гостиные ряды уникальны. На огромной площади расположилось множество различных по архитектуре, но при этом в чем-то схожих корпусов с колоннами и без, все красоты неописуемой. Они торгуют по сей день – входи, турист, и костромич входи, затаривайся.
Костромской сыр известен на весь мир. Ну, если не на мир, то уж во всяком случае, на весь бывший СССР.
Уже упомянутый Ипатьевский монастырь – не только колыбель Романовых, но еще и весьма стоящий архитектурный памятник. Правда, не так давно, его отдали РПЦ (о том, что стало с экспонатами музея, размещавшегося здесь во времена СССР, пожалуй, умолчим), но батюшка вас все равно благословит на посещение и осмотр достопримечательностей.
А рядышком с монастырем – музей деревянного зодчества, один из лучших в России.
Да и сам город – загляденье.
* * *
П. Сумароков, путешественник, писал: «Поутру вступили мы в Кострому. Правильная улица довела нас до площади с пирамидою посереди, указали нам за нею гостиницу, и мы вкусно пообедали стерлядями. Строения благополучные, и на всех улицах хорошие мостовые, великая опрятность.
Площадь, о которой мы уже упомянули, окружена каменными лавками, каланча с фронтоном и колоннами легкой архитектуры занимает один ее бок, посреди стоит деревянный на время памятник с надписью «Площадь Сусанина». Площадь эта походит на распущенный веер, к ней прилегают 9 улиц, и при одной точке видишь все их притяжения. Мало таких приятных, веселых по наружности городов России. Кострома – как щеголевато одетая игрушка».
Вместе с тем, город еще до революции был своего рода символом сонной незыблемости. Федор Сологуб (он побывал тут в 1909 году) писал: «Плывем на пароходе по Волге, видим – Кострома на берегу. Что за Кострома? Посмотрим. Причалили. Слезли. Стучимся.
– Стук, стук!
– Кто тут?
– Кострома дома?
– Дома.
– Что делает?
– Спит.
Дело было утром. Ну, спит, не спит, сели на извозчика, поехали. Спит Кострома. А у Костромушки на широком брюхе, на самой середке, на каменном пупе, стоит зеленый Сусанин, сам весь медный, сам с усами, на царя Богу молится, очень усердно. Мы туда, сюда, спит Кострома, сладко дремлет на солнышке.
Однако пошарили, нашли ватрушек. Хорошие ватрушки. Ничего, никто и слова не сказал. Видим, – нечего бояться Костромского губернатора, – он не такой, не тронет. Влезли опять на пароход, поехали. Проснулась Кострома, всполошилась.
– Кто тут был?
Кто тут был, того и след простыл, Костромушка».
Все, по большому счету, так же. Кострома – сонная российская провинция. И не устает гордиться этим.
А В. и Г. Лукомские, авторы путеводителя по Костроме, изданного в 1913 году, увидели город таинственный и сокровенный: «На фоне черного неба, когда покровом жутким ночь окружит все стены зданий, ярко освещенных огнем фонаря, они покажутся еще живее, еще фееричнее. Выглядывают тогда из-подлобья темные окна домов, а те, которые озарены извнутри светом, позволят нам увидеть иную жизнь, ту, что за стенами, за геранью и за занавеской кружевной, у лампады, на мебели старинной, и у рододендрона широколистого.
Так сладостно бывает вечером, бродя по улицам пустынным, уйти в миры чужие, облететь мечтою все эти маленькие домики, увидеть весь уют патриархального уклада, мир предрассудков и ограниченного счастья всех этих маленьких людей, ушедших целиком в жизнь своего родного провинциального городка.
И церкви с куполами, усыпанными крупными, яркими звездочками, увенчанные пирамидами, шпицами и вазами, вытянутыми, сплюснутыми, перевитыми, задекорированными гирляндами и лентами, с затейливым узором оконных наличников, карнизов, с бусами кокошников и порталов, с клеймами резного камня, изображающими то зверя лютого, то птицу-неясыть, то льва геральдического, окрашенные пестрыми колерами в шашку, или в лимонный цвет, на котором, как на парчу, положено кружево белых украшений, – полны той особенной сказочной прелести, которая бывает под хрустальным кровом колпака или пресс-бюара, в засушенных цветах весны, давно минувшей… Над старинными стенами свешиваются низко и ласково, покрытые инеем, отяжелевшие ветви деревьев; придавая фантастический вид всему окружающему, возвышаются покрытые шапками снега стройные ели; выглядывают из-за крыш лохматые кедры, или, рисующие на темном небе, как иней на стекле узор из страусовых перьев, березы».
Такова была мистика старого провинциального города. Смотрели на него братья Лукомские, и сами же своим глазам не верили: «А быт тридцатых-сороковых годов, каким-то чудом сохранившийся до наших дней? Каланча с сонным пожарным, гауптвахта с арестованными офицерами, а полосатые будки часовых и столбы перед постоялыми дворами, – неужели все это, столь пригодное для декорации гоголевской и даже грибоедовской пьесы не чудо, не феерия, а действительность??
А прелесть крепкого аромата бакалейных лавочек, терпкий запах близ «кожевенных линий», или в «табачных рядах», или воркование голубей под сводами «мучных» или «льняных» линий? во всем этом также выражается провинциальная жизнь.
А чугунные решетки, украшенные гирляндами из черных цветов, вырастающие как бы из снега, а иконы, восьмиугольные, круглые, – под сводами гостиных дворов? А этот скрип клеенкой обитых трактирных дверей, из которых валит пар и вкусный запах, а обитые стеклярусом карусели с пегими, рыжими и вороными лошадками, удивленно смотрящими блестящими глазами и, на радость детворе, кружащимися под звуки инструмента из бутылок, до половины налитых водою? А танцы под громыхания духового оркестра в белоколонном зале Дворянского Собрания, где встретить можно еще типы давнишних времен: дам в желтых парчовых нарядах, в платках ярко-узорчатых, с белыми страусовыми перьями в пудреных волосах, или мужчин в костюмах времен очаковских и покорения Крыма».
Да, конечно, все это сопровождалось традиционной для России провинциальной неустроенностью. Директор костромской гимназии Н. Ф. Грамматин писал в Вологду приятелю князю П. Вяземскому: «Описывая Вологду, вы описываете Кострому: здесь такая же грязь, как и у вас, точно такая же дороговизна в квартирах. С бедных приезжих дерут кожу, не помышляя, что завтра их может постигнуть такая же участь… Через здешний город на неделе раза два сотнями гонят пленных: вы не поверите, как они оборваны, бледны, худы, одно основание человечества, что-то похожее на человека».
Шла война с наполеоновской армией, и это, конечно, накладывало отпечаток.
Зато Костромой искренне восхищался – несмотря на недавний пожар – драматург Александр Островский: «В Кострому приехали в 11-м часу и остановились в единственной, пощаженной пожаром, гостинице. Она очень неудобна для нас, да уж нечего делать – хорошие все сгорели. Много хорошего сгорело в Костроме. Мы с Николаем ходили смотреть город; площадь, на которой находится та гостиница, где мы остановились, великолепна. Посреди – памятник Сусанину, еще закрытый, прямо – широкий съезд на Волгу, по сторонам площади прекрасно устроенный гостиный двор и потом во все направления прямые улицы. Таких площадей в Москве нет ни одной. Правая от Волги улица упирается в собор довольно древней постройки. Подле собора общественный сад, продолжение которого составляет узенький бульвар, далеко протянутый к Волге по нарочно устроенной для того насыпи. На конце этого бульвара сделана беседка. Вид из этой беседки вниз и вверх по Волге такой, какого мы еще не видали до сих пор. Мимо нас бурлаки тянули барку и пели такую восхитительную песню, такую оригинальную, что я не слыхивал ничего подобного из русских песен…
Опять ходили смотреть на город. Пошли мелкими улицами и вдруг вышли в какую-то чудную улицу. Что-то волшебное открылось нам. Николай так и ахнул. По улице между тенистыми садами расположены серенькие домики довольно большие, с колоннами, вроде деревенских помещичьих. Огромные березы обнимают их с обеих сторон своими длинными ветвями и выдаются далеко на улицу. Все тихо, патриархально, тенисто. На немощенной улице играют ребятишки, кошка крадется по забору за воробьями. Заходящее солнце с своими малиновыми лучами забралось в это мирное убежище и дорисовало его окончательно. Николай от полноты души выразился, что это так картинно, что кроме как на картине нигде и не встретишь. Пошли по этой улице дальше и вышли к какой-то церкви на горе, подле благородного пансиона. Тут я, признаюсь, удержаться от слез был не в состоянии, да и едва ли из вас кто-нибудь, друзья мои, удержался бы. Описывать этого вида нельзя. Да чуть ли не это и вызвало слезы из глаз моих. Тут все: все краски, все звуки, все слова. А заставьте такого художника, как природа, все эти средства употребить на малом пространстве, посмотрите, что он сделает. Тут небо от самого яркого блеску солнечного заката перешло через все оттенки до самой загадочной синевы, тут Волга отразила все это небо, да еще прибавила своих красок, своих блесток, да еще как ловкий купец ухватишь за конец какой-нибудь фиолетовое облако и растянешь его версты на две и опять свернешь в тучку и ухватишь какую-нибудь синеву с золотыми блестками. Облака, растрепанные самым изящным образом, столпились на запад посмотреть, как заходит солнце, и оно уделило им на прощанье часть своего блеску. А диким гусям стало завидно, и они самым правильным строем, вытянувшись поодиночке углом, с вожаком в голове, потянулись на запад; вот они поравнялись с солнцем, их крылья блеснули ослепительным светом, и они с радостным криком полетели на север. Мы стоим на крутейшей горе, под ногами у нас Волга, и по ней взад и вперед идут суда то на парусах, то бурлаками, и одна очаровательная песня преследует нас неотразимо. Вот подходит расшива, и издали чуть слышны очаровательные звуки; все ближе и ближе, песнь растет и полилась, наконец, во весь голос, потом мало-помалу начала стихать, а между тем уж подходит другая расшива и разрастается та же песня. И так нет конца этой песне. С правой стороны у нас собор и главный город, все это вместе с устьем Костромы облито таким светом, что нельзя смотреть. Зато с левой стороны, почти у самых наших глаз, такой вид, что кажется не делом природы, а произведением художника. По берегу, который гора обогнула полукружием, расположен квартал, называемый Дебря, застроенный разнообразными деревянными строениями с великолепной церковью посредине в старом штиле. С правой стороны Дебря ограничивается той горой, на которой мы стоим, сзади – горой, на которой реденькая и вековая сосна нагнулась и стережет этот уголок; слева тоже березки, и вдруг неизвестно откуда забежала по горе темная сосновая роща, спустившаяся до самой реки. Она охватила это очаровательное место, чтобы не разбежались берега и домики не потеряли порядку. Через рощу видно горы и какие-то неведомые холмы верст на 30. На той стороне Волги, прямо против города, два села; и особенно живописно одно, от которого вплоть до Волги тянется самая кудрявая рощица, солнце при закате забралось в нее как-то чудно, с корня, и наделало много чудес. Я измучился, глядя на это. Природа – ты любовница верная, только страшно похотливая; как не люби тебя, ты все недовольна; неудовлетворенная страсть кипит в твоих взорах, и как ни клянись тебе, что не в силах удовлетворить твоих желаний – ты не сердишься, не отходишь прочь, а все смотришь своими страстными очами, и эти полные ожидания взоры – казнь и мука для человека».
Неравнодушен к Костроме был и поэт В. Боков. Он писал :
Зато Юрию Нагибину город не приглянулся. Правда, побывал он тут не в лучшие, брежневские времена: «На другой день познакомились с Костромой. Город невелик и невзрачен, во дни Кустодиева он был неизмеримо приглядней. Главная достопримечательность – ампирная каланча. Но хорош Ипатьевский монастырь, меж Волгой и ее притоком. Там похоронен Пожарский. В магазинах – серая ливерная колбаса, из-за которой убивают, сыр (!), овощные консервы, супы в стеклянных банках с броской надписью „без мяса“, какие-то консервы из загадочных рыб, которые никто не берет. Есть еще „растительное сало“, помадка, пастила и сахар. Остальные продукты в бутылках: водка и бормотуха. Много пьяных на улицах и много печали во всем. Зашел побриться в парикмахерскую. Воняла мыльная пена, воняли руки парикмахера, вонял паровой компресс, нестерпимо вонял одеколон».
А поэт Демьян Бедный писал:
Да, поводов для улыбки в Костроме всегда было не счесть. Нам в этом еще предстоит убедиться.
Опять я в костромских просторах,
Где знаю каждый уголок!
И кажется мне, что в моторах
Есть окающий говорок.
Любуюсь на реку с балкона,
Стихи прохожим раздаю.
Мне Кострома давно знакома,
Но я ее не узнаю.
Кострома – это «город-улыбка»!
Уезжая, вздохнул я невольно:
«Расставаться, товарищи, больно.
Шутки-шутки, а вот я возьму
И махну навсегда из Москвы в Кострому!»
Центр
Кострома – город торговый, и не удивительно, что самый ее центр занят под торговые ряды. А их тут множество – Мучные, Пряничные, Мелочные, Хлебные, Квасные, Масляные, Овощные, Рыбные, Дегтярные, Мясные – всех не перечесть. Подавляющее большинство этих построек до сих пор используется по прямому назначению – в них торгуют.
Кострома, как образцовое торговое пространство, даже вошла в русскую классику. Николай Некрасов в своих «Коробейниках» писал:
И, конечно, там, где бойкая торговля, там и сама жизнь другая – тоже бойкая, манящая и разудалая:
Конечно, женушка сбежала в Кострому. Не в Судогду же, право слово, было ей, голубушке, бежать.
Эх, раз живем! Эх, ходи веселей, Кострома!
Один из костромских купцов, И. Чумаков писал в дневник: «Ехавши утром в лавку, я обогнал одну даму, идущую по тротуару, очень прилично одетую и недурную собою, но так как она мне показалась новая личность, то ею заинтересовался. После обеда мы поехали в город втроем: я, Миша и Дмитрий Михайлович. Эта дама опять нам встретилась, долго вглядывалась в меня, я намеревался поклониться, но незнакомой даме я кланяться не решаюсь, а тем более в кругу своих. Я тотчас же восторгнул любопытством, кто она, и находчивость Миши решила мне, что это жена Игната Петровича Дружинина; видевши я ее раз в день брака, не мог запомнить хорошо, но только она мне показалась очень красивою».
Здешние предприниматели были настолько же неравнодушны к женщинам, насколько к барышам. Незнакомой даме, видите ли, кланяться он не решился.
Впрочем, И. М. Чумаков был еще достаточно стеснительный и осторожный насчет дам. В другой раз писал в дневник: «Приехавши из лавки, от кучера я получил письмо анонимное, поданное какою-то женщиною у лавки. Письмо говорит, что я не желал в прошлое воскресенье у церкви говорить с одною дамою, а потому сегодня она и ждет меня у себя с шести часов до девяти часов по какому-то экстренному делу. Не имея никаких с женщинами интриг, сношений, от этого приглашения я отстраняюсь и, разумеется, не пойду. Но, между прочим, меня сильно это расстроило, боясь, чтобы не вышло какой-нибудь насевки на меня. Мое праздничное спокойствие на сегодня отравлено. Сегодня буду в маскараде благотворительном клуба, то, может быть, с нею, этою особою, увижусь.
Аноним, так настоятельно меня требовавший, первый, а потому встревожил он меня страшно. Как осмелились меня беспокоить, замешивать меня в какую-то грязь, но я за собою ничего подобного не имею. Так мои нервы натянуты, что малейший стук, шум меня приводит в трепет, как будто ко мне идут, дома даже боязно быть, во всем бельэтаже один, Миша сидит более наверху. Существование, в котором я сейчас нахожусь, весьма неприятно, тяжело; но все-таки вечером еду в маскарад и с собою беру Мишу. Что-то там будет, не натолкнешься ли еще на что-нибудь?»
Вот такое представление о чести и достоинстве.
* * *
Между прочим, среди здешних лавочных сидельцев было множество незаурядных личностей. Об одной из них писал другой мемуарист из рода Чумаковых, только не Иван Михайлович, а Сергей Михайлович: «В гостином дворе, в помещении под номерами 64 и 65, против церкви Воскресения на Площадке была нотариальная контора Павлина Платоновича Михайловского. Долгие годы он сидел в своей конторе, совершая всевозможные нотариальные акты. Нововведений он не любил, до самого 1918 года – момента ликвидации и национализации – он сидел за столом, на котором стояла песочница с мелким песком, употребляемым вместо новшества – промокательной бумаги. Писал он только гусиными перьями. Электрическое освещение считал баловством, вредно влияющим на зрение. На его письменном столе надменно горели только две стеариновые свечи, и у всех его служащих освещение было такое же. Несмотря на то, что с1912 года город стал освещаться электричеством, и во всех соседних помещениях свет был сильный, у него по-прежнему царствовал полумрак. Одевался он тоже в какие-то допотопных фасонов сюртуки, шляпа также была типичная для первой половины девятнадцатого века. Хотя жил он недалеко от своей конторы, но приезжал и уезжал в старинном экипаже. Летом, не смотря ни на какую жару, обязательно был в пальто с пелеринкой времен Николая Первого. Революция выбила его из колеи, не стало нотариальных дел, не надо было ехать в контору, и он в 1918 году умер. По внешности он был похож на пророка Илью, но с более добрыми глазами».
Он же сообщал и об одном купеческом семействе: «В Большом Мучном ряду была лавка некого Павлова. Он и его жена (тоже зачастую торговавшая вместе с мужем) были оба черные, как смоль, а все четверо детей, двое мальчиков и две девочки, имели цвет волос очень красивого оттенка – все блондины цвета льна. Поведение жены было вне подозрений, поэтому объяснялось происхождение льняных волос какой-то наследственностью от восходящих поколений».
Колоритен был предприниматель Зотов: «Алексей Андреевич Зотов был крупный костромской фабрикант, ему принадлежала половина Зотовской льняной мануфактуры – одной из крупных в России. Характер был у него вспыльчивый, имел массу причуд. Матерщинник был редкостный. Очень хорошо знал толк в качестве льна. Осенью сам ездил покупать лен на большой базар. При заключении сделки матерная ругань стояла с обеих сторон, перемежаясь с упоминанием Бога, Николы-угодника и всех святых. Наконец, когда стороны договаривались, то ударяли по рукам, срывали с голов шапки и истово крестились на Старый монастырь. Так совершалась сделка с каждым отдельным крестьянином.
Зотов никогда не был женат, но имел девушек, которых обеспечивал, а родившихся детей усыновлял, давая им прекрасное образование.
Вспыльчив был необычайно, но быстро отходил. Примерно около 1908 года пошел он в гости к своему племяннику, живущему с ним по соседству на фабричном дворе. В каком-то вопросе не сошлись во взглядах; вспылив, Зотов переломал все пальмы, фикусы и прочие зеленые растения, перебил все горшки, а деревянные кадки разломал. Хозяева, зная его характер, попрятались в других комнатах. Уходя, Зотов кричал, что придет опять и переломает всю мебель, чего сейчас сделать не может, так как очень устал. А через три дня в Кострому прибыл целый вагон пальм и других комнатных растений, выписанных из Москвы, куда Зотов вспоминал своего садовника, и все это было водворено на место разгрома.
Один из его «незаконных» сыновей, получив высшее образование, специализировался в сахарной промышленности и в советское время был профессором, преподавал в Московском пищевом институте».
Было в записях С. Чумакова и такое экстренное сообщение: «Купец Шабанов, видный мужчина средних лет, оплешивел. Пробовал выращивать волосы при помощи мази „Я был лысый“, широко разрекламированной в газетах, но из лечения ничего не вышло, плешь увеличивалась. Тогда он заказал себе парик, который одевал только по воскресеньям и другим праздничным дням, в будни же неизменно появлялся без парика».
А вот еще существенная информация: «Костромской купец Клеченов торговал мануфактурой в Гостином дворе. Это была самая крупная торговля мануфактурой в городе. Примерно в 1908 – 1909 годах он крупно пожертвовал на какой-то приют, за что получил орден, по праздникам надевал его на шею. После его смерти два сына никак не могли поделить отцовское наследство и, к удовольствию костромской публики, начали печатать в местных газетах большие письма, обливая друг друга помоями. В конце концов местные адвокаты оказали помощь и кое-как ублаготворили обоих наследников. Но торговля захирела, и вскоре магазин перестал существовать. Открылся другой мануфактурный магазин – Кириллова, но значительно меньшего размера. Братья же Клеченовы вскоре скрылись с костромского горизонта».
Вот, казалось бы, чушь несусветная! Ан нет, вся эта информация и составляла, собственно, круг интересов жителей провинциальной Костромы. Им было важно знать и про шабановскую лысину, и про его парик, и про приехавшие из Москвы комнатные растения. Для чего? Чтобы не отставать от жизни, разумеется.
Ведь пульс костромской жизни был именно таков.
* * *
Чтобы торговля шла поэффективнее, здешние лавочники разработали особое арго, никому больше не понятное. К примеру, если старшему приказчику надо было сообщить своему младшему коллеге, что опускать цену можно до пяти рублей, не менее, он кричал ему через всю лавку:
– Пяндором хрустов!
Что, собственно, и означало «пять рублей».
Если хотел дать знать, что нужно соглашаться на очередное предложение покупателя, то сообщал:
– Шишли сары!
Бедный клиент, конечно, понимал, что его дурят как котенка, но поделать ничего не мог.
Некоторые хозяева шли дальше и на ценниках рядышком с суммой писали несколько бессмысленных, на первый взгляд маленьких буковок. Это был шифр. Любой приказчик, ознакомленный с ключом, мог таким образом прочитать истинную цену – ту, ниже которой опускаться при торге нельзя. Ключ представлял собой десятибуквенное слово, да такое, чтобы буквы в нем не повторялись. Первая буква в слове соответствовала единице, вторая – двойке и так далее. Последняя была, ясное дело, ноль, при этом слово не должно было, на всякий случай, содержать в себе буковку «о» – чтобы с нулем не спутали.
Таким образом, если ключ был, к примеру, «ПРЕДСТАВИЛ», то шифр «РВ-СЛ» обозначал 28 рублей 50 копеек. При том «официальная» цена была, примеру, 35 рублей.
В качестве рекламы, разумеется, использовались громкие названия. Писали их подчас безграмотно, по большей части, без кавычек. В частности, часовой магазин Азерского имел огромную броскую вывеску: «Магазин Женева».
Идея, в общем-то, понятно. Да, самые престижные часы – швейцарские, да, в Швейцарии есть город под названием Женева, и у покупателя должен сложиться соответствующий ассоциативный ряд.
Но это – в идеале. А в действительности, подавляющее большинство костромичей считало, что здесь – магазин некого господина, носящего простую русскую фамилию: Женев.
А С. Чумаков писал о совершенно фантастическом рекламном ходе, придуманном одним предпринимателем: «Была торговля готовым платьем третьего сорта, главным образом из лодзинского материала. Принадлежала она Морковникову и именовалась неведомым для костромичей словом „Конфекция“. Магазин был оборудован следующим образом: окна завешены готовым платьем, так что в магазине царил полумрак, а при наступлении темноты зажигалась лампа с каким-то особым голубым стеклом; лампа была керосиновая, свету давала мало, и полумрак не давал возможности рассмотреть дефекты и окраску материала. Для оживления оборота против магазина на галерее прохаживался юркий еврейчик, у которого на руках была пара брюк. Увидя зазевавшегося крестьянина, он хватал его за руку и волок в магазин. Если клиент не отбивался, то как только он попадал в „Конфекцию“, на него набрасывались с разных сторон два или три приказчика, совавшие готовое платье прямо в лицо. Торговались до седьмого пота, а в случае, если покупатель уходил, то за ним мчались на улицу и тащили за полы обратно в „Конфекцию“».
Несмотря на очевиднейшую дикость этого приема, он срабатывал. Во всяком случае, оригинал Морковников имел возможность закупать новые партии сомнительных штанов, а также содержать своеобразный персонал.
И вместе с тем за «репутацией» следили строго. Как-то раз купец Галанин принялся кутить недалеко от города с девицами. Девицы оказались вороватыми и вытащили у Галанина две тысячи рублей. А вскоре после этого проговорились, кто-то сообщил о них в полицию, девиц быстренько взяли в оборот, они во всем сознались и отдали деньги. Галанин же, когда ему об этом сообщили, напрочь отказался признавать что бы то ни было. Дескать, и девиц он видит в первый раз, и денег у него никто не воровал. Как ни настаивали полицейские, он – ни в какую. Готов был запросто расстаться с этой далеко не малой суммой, лишь бы под присягой на суде не сообщать о своих шалостях. Иначе потеряет больше, ведь купеческое общество, прознав о том, что он способен на такое безрассудство станет к нему относиться впредь без должного доверия. Такого допустить никак нельзя.
Пришлось вернуть две тысячи вконец обескураженным девицам – ведь таким образом они оказывались законными владелицами этих денег.
И все таки, по большей части, здешние предприниматели были людьми скромными, честными и набожными. А для привлечения народа пользовались тактикой вполне приличной и пристойной.
* * *
Кострома отчаянно держалась, что называется, за чистоту рядов. Чужаку здесь прихрдилось сложновато. Вроде бы и не было открытой неприязни – просто дело почему-то постоянно стопорилось, и в конце концов сходило полностью на ноль. Вот, например, воспоминания ярославского предпринимателя Дмитриева: «Черт дернул моего хорошего приятеля Найденова предложить мне компанию: купить предлагаемую кондитерскую в Костроме. Съездили мы с ним в Кострому, поглядели: хорошая немецкая (Тшарнер) кондитерская, без булочной, в своем доме, пять мастеров, кладовые, посуда, две коровы, словом, очень хорошее хозяйство. В кондитерском же деле ни я, ни Найденов ничего не понимали а сторговались за 7000 рублей с уплатою 500 рублей при покупке, а остальные уплачивать по 100 рублей в месяц, считая и арендную плату, так что выплата кончалась бы в течение пяти лет.
Между нами условия были таковы, конечно, на словах: деньги Найденова, а моя работа, то есть я должен был переехать в Кострому и там заведовать кондитерской. Найденов же не мог ехать в Кострому, потому что он имел в Ярославле торговлю железом, я должен был перед ним отчитываться ежемесячно. В помощь мне была «командирована» его сестра Варвара Федоровна, чтобы освободиться от чужой продавщицы в нашем магазине.
Итак, в 1907 году я сделался, на свою беду, кондитером. С первых же месяцев я понял, что дело это не пойдет по разным причинам: во-первых, и самое главное, у моего приятеля, Найденова, оказалось очень мало денег, и нам приходилось все время испытывать недостаток товаров вследствие нехватки оборотных средств, и второе – наше незнание кондитерского дела. Так, например, осенью нужно было заготовить на целый год всевозможных фруктов в разных видах. На это нужно было тысяч 6 – 7, а у нас их не было.
Пробившись с этим делом около двух лет, мы его ликвидировали с грехом пополам, и я уехал опять в Ярославль».
От Костромы до Ярославля восемьдесят километров. Можно сказать, что господин Дмитриев толком-то никуда не уезжал. Однако, все равно – город чужой, слегка враждебный и уж точно настороженный. О том, чтоб кто-нибудь направил, подсказал, и речи не идет. Наоборот, пожалуй что, подсказывали, да в другую сторону, чтоб побыстрее предприимчивые ярославцы выехали с костромской земли.
Они и выехали.
* * *
Кстати, на масленицу здесь существовал обычая, в общем-то, довольно дикий: «В эти дни было массовое гуляние по галерее Гостиного двора, именовавшееся „слонами“ от слова слоняться. Здесь прохаживались или стояли под арками девицы на выданье, разодетые в бархатные шубы на меху, большей частью на лисьем, и держали в руках по нескольку платков, показывая этим достаток семьи. Тут же прохаживались женихи, высматривая себе подходящих невест. В особенности многолюдны были эти слоны до 1914 года. В связи с войной и уменьшением количества женихов далее они из года в год сокращались».
* * *
После революции торговля в костромских рядах, конечно, поутихла. В нэп возник некоторый всплеск, но тоже не на долго. Туго пришлось после войны, когда в Союзе отменили карточки. Одна из костромичек, Т. Попова вспоминала: «Стояли во дворе 12-го магазина, ну, не ночь, но с раннего утра, и весь день, писали номера на ладошках, младших оттирали. Когда начинали выдавать, бежала домой, сказать, что дают. Наверное, муку».
К ней присоединялась и другая жительница города, М. Виноградова: «С рынка все приносили. Центральный рынок – только продовольствие, а на Сенном – и продовольствие, и барахолка. А в магазинах не было ничего. Хлеб – пока были карточки – купить было легко, а потом отменили, очереди до умору стояли. За хлебом-то не так, а вот к празднику, когда муку давали или консервы, американские консервы. Доставалось не всем, только начальству. Сладкого не было, жиров не было. Иногда раз в год давали масло топленое, коровье. Хорошо жили те, кто в магазине работали.