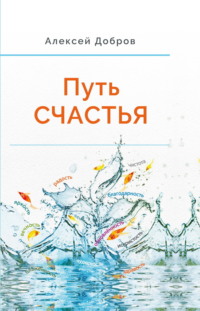Buch lesen: "Путь Счастья"
Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р25-502-0025

© Протоиерей Карташев П., 2025
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2025
Вступление
Моя Москва
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу…
Е. Баратынский
Москва моего детства – начала и середины 1960-х годов – внешне не сильно изменилась с дореволюционных времён, когда маленькими были мои бабушки и дедушки. И хотя советская власть вносила в облик столицы перемены немалые, но всякие архитектурные опыты и новшества долго не проникали в тихие улочки и дворики, не покушались на благородные фасады скрывавшихся в переулках домов. А в коммунальных квартирах этих домов и во дворах, где бегали, играли и дружили дети середины века, – там-то и сохранялся мой город, там подрастало поколение тех, кто видел и осязал бывшую Россию. Мне даже казалось, что я слышу минувшее, если вдруг захлопывалась тяжёлая дубовая дверь на втором этаже, и от этого торжественно гудело с первого по пятый во всём прохладном подъезде. Такое эхо, мелькнула мысль, слышала Ирина Терентьевна из восьмой квартиры – в ней родилась и до сих пор живёт, – когда по лестнице мчалась на улицу, лет семьдесят назад, ещё девчонкой. А ступени лестничных маршей из золотистого песчаника, с гладкими углублениями от тысяч и тысяч ног – что они повидали за целый век и даже больше? По ним проходила непоколебимая Россия при Александре III, пробегали восстания, шаркала разруха. Помнят лестницы самоуверенный шаг Советов, и торопливые перебежки Отечественной войны, и весенний говор конца пятидесятых. И вот в свой срок вступали и мы в дорогое наследство: перил, витых решёток, вытертых ступеней, высоких филёнчатых дверей с блестящими медными ручками.
Да, иным из моих родных суждено было, без усилий с их стороны, всю жизнь провести в тех же домах, в которых они ещё детьми, в Российской империи, жили с родителями. Но остались у себя дома только единицы. Большая часть родни погибла или пропала в тридцатые и сороковые в лагерях или во время войны. Некоторых выживших просто разметало по миру: кто-то оказался поблизости, в московских новостройках, иных унесло в Казахстан, в Мурманск, одна семья осела на Кубани. Совсем редкие – эмигрировали.
Москва, её центральная часть, та, что в пределах Садового кольца, на всех почти картах напоминает паутину: вот прямые нити от центра к окружности – это улицы; а между ними поперечные ниточки, лучики или штрихи – это переулки. Переулки связывают улицы и поддерживают их, не позволяют им ни сблизиться, ни разойтись. Они – рёбра города. Я в детстве жил в той части Москвы, в Уланском переулке, где между главными улицами – сплошные рёбрышки.
Близкая к нам Сретенка до сих пор является опорным столбом, позвоночником, к которому переулки крепятся и от которого расходятся. Если повернуться лицом к далёкому Кремлю, к сердцу города, а спиной к Сухаревской площади и пройтись по Сретенке, то справа один за одним пойдут Сухарев, Мясной, Головин, Пушкарёв, Сергиевский, Колокольников и Печатников переулки. А слева – Даев, Селивёрстов, Просвирник, Луков, Ащеулов и Рыбников. Какие имена-названия! В таком-то месте селились пушкари, поблизости – колокольщики. У нас же здесь, в нашем родном Уланском, квартировали уланы. А в этой улочке просвирни пекли просфоры для множества московских церквей. В Печатниковом и Колокольниковом жили наши родственники, а в Ащеулове и Головине – мои одноклассники. Во многих дворах, а между Костянским и Уланским – точно, мы по трещинкам в земле, раскапывая аккуратно бугорок руками, находили белые крепкие шампиньоны, очень вкусные, настоящие. Они там неспешно созревали. Чисто было в городе. И тихо: где-нибудь на Садово-Спасской, пропуская прохожих, на светофоре в час пик стояло три-четыре машины.
Играли мы обычно своим тесным кругом, но иногда двор против двора: в партизаны и в войну. А ещё девочки и мальчики, все вместе, с утра до позднего вечера играли в дочки-матери: строили из кирпичиков и фанерок квартиры (без крыши, этакие макеты) и в них устраивали всякий уют; нянчили – кормили кашками из песка, пеленали в тряпочки – своих будущих детей.
А в нашей булочной, которая помещалась в нарядном доме, облицованном по цоколю тёмно-коричневым кафелем, и ещё в кондитерской на углу Сретенки и Большого Сухаревского переулка, и только в них, продавались сдобные булочки с хрустящей корочкой удивительного вкуса и аромата, по восемь копеек, обсыпанные воздушной сахарной пудрой. Такой сдобы я так нигде и не встретил с тех пор. А таких точильщиков, ходивших по дворам со своими ручными станочками, созывавших хозяек криком «точить, чинить, посуду лудить», забиравших кастрюли и чайники в починку и ещё чинивших всякую домашнюю мелочь и продававших детям за копейки самодельных лошадок и матрёшек и крохотные свистульки… Таких я, конечно, тоже нигде уже не увижу.
А однажды майским утром бабушка открыла в первый раз после зимы окно. Отлепила бумажные полоски от щелей и распахнула его настежь. По радио в эти минуты передавали что-то очень нежное и великое, солнце сверкало в верхних стёклах дома напротив, и я почувствовал, как раскрывается широко, не обнять взглядом, будущее. Я буду расти, и у меня всё будет получаться, и все люди на свете будут любить друг друга. Позже я узнал, что передавали Мусоргского, рассвет на Москве-реке: птицы взлетают, ветер качает верхушки елей, плещет волна о небольшой струг, и впереди золотятся купола Кремлёвских соборов и колоколен. С годами для меня Москва Сретенки и Мясницкой, от Трубной площади до Покровских ворот: переулки, дома, близкие соседи, все дети наших дворов, и Тургеневская снесённая читалка, палисадники за невысокими оградами, бульвары, булочные и кинотеатры – а не один лишь Уланский, знакомый до каждой ямки и деревца, – вся эта Москва стала глубоким фоном, заданным на будущее тоном и ритмом, углом зрения и почерком мысли.
Псалмопевец царь Давид благодарит Бога за все Его дары. Он, пророк, великий поэт древности и вообще всех времён (нет языка на планете, на который не были бы переведены его стихи-псалмы и на котором не читались бы они и не распевались доныне), благословляет Бога, очищающего тебя, – здесь он обращается как будто со стороны к себе самому и в своём лице к любому другому человеку – от беззаконий, исцеляющего все недуги твои, избавляющего от истления жизнь твою, венчающего тебя милостью и исполняющего твои благие желания. Тем более удивительно это, что мы, по его словам, – прах земной, мы подобны траве, быстро отцветающей. Зачем же Господь так заботится о траве? Не напрасно ли Его внимание? Ведь отлетает от нас дух наш, и место наше уже не узнает нас, и мы тоже не узнаем своих мест. Да, так и есть – на земле. Внешне всё меняется до неузнаваемости. Но внутренняя связь не рвётся. Сохраняется замысел Божий – он проходит невидимой нитью, пронизывает могучей силой времена и пространства, сшивает в целое части, которые без помощи свыше забыли бы себя и то, что они всего лишь части.
И я решил, пока это верное слово Псалтири ещё напоминает мне, что невидимые связи не рвутся, походить по своим дворам и переулкам. И ногами побродить, и душой прикоснуться. Постоять, вглядеться в то, что не сильно изменилось или что в памяти не изменилось вообще. Я пытался вообразить, что бы я подумал несколько десятилетий назад, когда бы мне открылось будущее и передо мной, мальчишкой, встал бы я, но пожилой. Конечно, я не узнал бы себя, ведь изменился сильно. Всё же не камень и не чугун, чтобы долго держаться без морщин и ржавчин. Пронёсся над жизнью ветер, лопнули мыльные пузыри важных и неотложных проектов, растаяли пугавшие миражи. И всё?
Нет, не всё. Лишь только пророк Давид сказал, что «человек – как трава, дни его – как цветение полей», как тут же продолжил, не позволяя впасть в печаль: «Милость же Господня во все века на боящихся Его». Она, эта милость, – питательная и просвещающая среда. Я непременно узнаю и место, и время, если пребуду в свете Божией милости и заботы. Проникну сердцем сквозь наслоения и перемены в своё собственное начало. И оно в ответ как будто зашевелится, вздохнёт, узнает во мне всё того же радостного, собирающегося вечно жить человека. Я на этой городской земле вырос, и мне выпала честь, среди других многих, живших рядом, за неё благодарить. Унести её с собой, в сердце – в нетление. Нетленна же и бессмертна только она – милость Его. И я увидел свои дворы и переулки в каком-то особенном свете; его отдалённо напоминает свет начинающегося солнечного дня, когда вокруг ещё тихо, а сердце обмирает от предчувствия большой счастливой жизни, которая вот-вот проснётся.
Как же я умру – меня мама любит!
Встретил небо, встретил небо… Очень знакомое что-то, откуда это? Каждый год читаю, торжественно, лицом к Церкви, ко всем стоящим в ней людям, на Пасху. Они тоже пришли на встречу с Небом, с воскресшим Богом. Эти слова из Слова огласительного в день преславного Христа Бога нашего Воскресения святителя Иоанна Златоуста. Святитель описывает, нет, возглашает красиво и вдохновенно, как огорчился ад, встретив Христа не мёртвого, а угасившего смерть своею смертью. Ад низвергся, умер. Потому что пленил его Сошедший в него. Ад принял тело (бездыханное тело снятого с Креста Иисуса) – и коснулся Бога, принял землю и встретил Небо. Встретил Небо.
Встретить небо можно – чаще всего так и бывает, наверное – совсем неожиданно. Как вообще люди, в древней Церкви, обращались в Христианство? Я этот вопрос задаю, среди прочих, на беседах с родителями и крёстными перед Крещением. Как? Да и в наше время тоже. На глубине, в таинственном механизме обращения всё главное совпадает. В древности и в наше время. Услышали что-то, запало в душу. Прочитали книгу или отрывок из статьи в журнале. А ещё важнее, точней: стали свидетелями самоотверженного поступка, христианского мужества, как несколько лет назад в Сирии, например, в маленьком городке, где монастырь святой равноапостольной Феклы. Жили себе сёстры монастыря, принимали паломников, молились Богу. Всё было размеренно и мирно. И не предполагали они, что придут люди без сердца и дадут им возможность засвидетельствовать свою верность Христу даже до крови. А в раннехристианские времена публичные казни мучеников (то есть дословно – «свидетелей») обращали ко Христу многих зрителей, пришедших «на позор сей».
Один знакомый рассказывал, что в двадцать пять лет был ещё не крещён, и вот однажды его поразила, пленила чистота девушки православной. Это происходило в начале 1980-х годов – время советское, государство тогда продолжало бороться с христианством. И знакомый мой потянулся к тому, что было для той девушки дорогим. Достал Евангелие, прочитал. Говорит, что, перевернув последнюю страницу Евангелия от Иоанна, надел ботинки и поехал в Елоховский собор (другой церкви не знал), подошёл к человеку в подряснике (выяснилось позже – к пономарю) и сказал ему громко и решительно, чем немного напугал его: «Я креститься приехал, верю в Бога. Что мне сейчас нужно, куда идти?» Его крестили, конечно, но не в этот день. И, заботясь о нём, о том, чтобы он с хорошей работы не вылетел, не в соборе, а в Удельной, под Москвой, в деревянной церкви, и скромно крестили, без записи.
Вот встретился обыкновенный человек с таким же человеком, во всём подобным ему, только один в глазах другого увидел что-то не повседневное, какое-то небесное отражение. И задумался. Или фильм посмотрел, музыку услышал. В храме на службе оказался. Как одна девушка в Нью-Йорке – про неё мне недавно рассказали – перешагнула случайно (не случайно?) порог Никольской церкви и увидела Христа распятого. Приблизилась к Нему, с ужасом всмотрелась и замерла. Стала приходить, а языка не понимает – ни церковнославянского, ни русского, но идёт служба, поют, кадят ладаном, горят свечи. И люди вокруг, она это чувствует, тоже потрясены тем же, чем и она: страдает кто-то на Кресте, Кто не должен страдать. Но поверх этого чувствуется, что все вместе они что-то знают, нечто невидимое им открыто, и это делает их собранность не безотрадной, не безнадёжной, внутренне светлой. А что здесь царит, что их соединяет? Она тоже потянулась, не отдавая себе отчёта в своём порыве, к выяснению. Что здесь пребывает такое невидимое, сильное, ни с чем не сравнимое? «Я тоже, – она потом улыбалась счастливо, – хотела знать, желала в этом главном быть, как они». Человек смутно ищет лучшего, хочет быть высоко, надёжно счастливым.
У Бунина есть сонет «Вечер». Конечно, он не по этому поводу, но почти, но близко и красиво. Удовольствие просто переписать его. Получает же удовольствие играющий на фортепьяно: смотрит в ноты, и осторожно играет, и удивляется, какая чудесная музыка возникает под руками.
О счастье мы всегда лишь вспоминаем,
А счастье всюду. Может быть, оно —
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно,
В бездонном небе лёгким белым краем
Встаёт, сияет облако. Давно
Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано…
Да, встречи. И есть главная встреча, которая без труб и огласки. Господь Бог пришёл в мир незаметно. О встрече как таковой хочется неторопливо подумать, под этим углом зрения взглянуть на все вещи.
Человек ли нащупывает, чего-то ища. Он и сам порой не знает, чего ищет. Только о чём-то желанном и неведомом томится, тоскует душа. Света ищет, чистоты, высокого и обновляющего всё его существо дыхания настоящей жизни, весны, любви. Может быть, это всё сосредоточено в Боге, от Него исходит, Им даруется? Или, за очередным поворотом судьбы, нежданно-негаданно для нашей беспечности, Бог нас через кого-то окликает, касается ума, сердца? Так или иначе, встреча происходит. А что всё-таки чаще бывает в начале? Скорее всего, ни то и не другое, но и то, и другое, и всё одновременно. Только вне времени. Втайне. Время загудит потом: этапы, ступени.
Прежде чем человеку откроется окружающий мир как неслучайный узор, продуманный, кем-то с любовью и мыслью вычерченный и расцвеченный; и прежде, чем он научится прислушиваться к голосу своей души, всматриваться в себя, рассуждать и в чём-то важном убеждаться – он встретит другого человека, знающего и любящего.
О! Как неоценимо ответственна эта встреча. Мать и отец – вселенная для ребёнка. Один молодой мужчина, очень серьёзный, до тридцати лет прошедший всякие суровые испытания, и горькие падения, и страшные опасности, осознанно и радостно собирался в монастырь. Я его спросил, давно ли он верует и что его побудило выбрать такой путь к Богу.
«Мне мамаша, – ответил он, – года три мне тогда было, показала крестик и сказала: это Господь. Я с тех пор не сомневаюсь. Вот так врезалось в ум, я и не забывал никогда, даже когда водку пил и людей обижал. А чтобы не мучиться, пил. А потом перестал, решил: буду с Богом».
Как же остро и нежно, наверное, были сказаны эти слова, что они, живым зёрнышком упав в самую тёплую глубину сердца, смогли там отлежаться, окрепнуть, возрасти и расправиться – и вдруг оттереть всю муть с души…
Над ребёнком склоняется мама, как над человеком зрелым, думающим, склоняется небо. Маленький человек ещё неба не понимает – что оно такое; ещё звёзд не видит, не различает их путей и сочетаний. Но в его маленьком небе горят свои солнца: лица родителей и других самых близких людей. И вот мама говорит малышу, что у него и у неё есть ещё Кто-то, Кого она тоже очень любит, и не меньше, чем своё дитя, и Кто над всеми людьми. И это же малышу говорит не кто-нибудь, а сама жизнь, то есть мама.
Андрей Платонов, русский писатель, написал рассказ «Ещё мама». Он – о расширяющейся любви и заботе взрослых о детях. Учительница обняла и начала успокаивать мальчика, который испугался чёрного быка с кровавыми глазами, подступившего к окну школы. Артём, так звали мальчишку, от страха закричал: «Мама!» Учительница схватила его и прижала к своей груди: «Не бойся!.. Сейчас я тебе мама!»
Стадо племенных быков погнали дальше, Артём успокоился и спросил у Аполлинарии Николаевны:
– А ещё у меня есть мамы?
– Есть, – ответила учительница. – Их много у тебя.
– А зачем много?
– А затем, чтоб тебя бык не забодал. Вся наша Родина – ещё мама тебе.
Был у меня такой период в моей священнической жизни, когда я года два подряд, а то и три (честное слово, точно не помню) ходил по пятницам к четырём часам, перед разбором детей по домам, в детский сад. Собирали детишек в зале, группы две или три, от подготовишек и ниже, и я рассказывал им сказки. Да, в основном это были сказки, причём трёх родов: прочитанные накануне или давно и сейчас пересказываемые, с выражением и всякой иллюстративной мимикой и жестикуляцией; во-вторых, придуманные мною дома, за письменным столом; и, наконец, сочинявшиеся прямо на месте. В голове, как правило, несколько образов и назидательная идея, и я начинаю плести из них сюжет.
Но чаще я пересказывал классику и хороших современников. Ещё немного рисовал с ними и просто рассказывал о природе, о мире взрослых людей. А однажды попытался даже адаптировать Книгу пророка Ионы. Слушали с раскрытыми ротиками; особенно запомнились мне их глазки, когда я описывал волну разбушевавшегося моря высотой «вон с тот пятиэтажный дом за окном», тёмно-зелёную, пенную, готовую проглотить кораблик и всех пассажиров вместе со спящим пророком Ионой.
Ну конечно, с пророком и с большим городом Ниневией, в котором было много детей, а также осликов и овечек, всё кончилось хорошо. Чтобы плохо – недопустимо. Дети должны жить во свете и радости. И вот помимо сказок, историй и всяких рукоделий, для закрепления нравоучения, которое содержалось в сказке, я с ними иногда беседовал. О чём? О самых главных вещах. Разумеется, с мыслью о душевной пользе. Например, о любви к родителям, воспитателям, друзьям, собачкам и кошкам, цветам и травкам, ко всему миру. Задавал вопросы, подсказывал ответы. Как-то речь коснулась будущего: вот мы вырастем, станем большими. Девочка одна, с огненно-рыжими кудрями, очень сообразительная и быстрая, вдруг сообщила:
– А у нас в подъезде бабушка умерла!
Я сочувственно закивал головой. И слышу, сбоку:
– А что эта – бабушка умерла?
– Как что? – отвечаю я машинально. – Наверное, время пришло, стала старенькая.
– А что умерла?
Я снова о том же. Но через минуту мне стало совершенно ясно (впрочем, я всегда об этом догадывался), что дети смерть воспринимают не так, как мы, то есть неискажённо. В принципе, они о ней не думают. В их душах царит настроение расцвета, пробуждения. Но если разговор всё же зайдёт о том, что для нас – кончина, то дети обнаруживают подлинное, не испорченное взрослыми чувство жизни.
Та самая, что всё спрашивала, что да как умерла, вдруг поворачивается к рыженькой и говорит:
– А ты тоже умрёшь?
Пауза длилась совсем недолго, но мы все притихли в ожидании ответа: заведующая, две воспитательницы и я. А рыженькая умница, которую переполняли чувства, так что она не могла их сразу и высказать, даже ручками всплеснула:
– Как же я умру – меня мама любит!
Мама для неё – любящая вселенная; мудрый, всемогущий и нежный мир. Вечный, так как времени впереди – не охватить взором и умом! Если она меня любит, то она меня не отпустит – бояться нечего!
Когда поймёт мыслящая душа (а ей понять – значит увидеть сердцем, поверить), что её действительно знает и любит Бог, тогда даже онемеет на миг от счастья. Потому что вечный Бог её никогда не забудет, не бросит, не отпустит. Как же я умру, когда меня Бог любит!
Четыре маленькие истории, которые вытекают одна из другой
Не плюй в колодец
«– Можно с вами не знакомиться? Вы не ослышались. Я не буду с вами знакомиться, понятно?
– ?
– Прошу вас, не ищите моего внимания. Это некрасиво. Вы от самого вокзала интересно вздыхаете, посматриваете в мою книгу, роняете всякие вещи. Я еду сдавать экзамены, и мне надо отключиться от всего, что этому мешает.
– Мне кажется, у вас мания…
– Самообожания, да? Несбывшегося желания? Пожалуйста, да что угодно! Смотрите в окно, там перспективы. Спасибо.
Я лёг на незастеленную скамью и повернулся к ней, мягко говоря, спиной».
Весь этот разговор мне передал Леонид К.: так он познакомился со своей будущей женой. Он ехал в Москву из родного Симферополя в 1975 году поступать в университет. В четырёхместном отсеке плацкартного вагона вместе оказались бабушка с внучкой, которые во время этой тирады раздражённого абитуриента находились где-то у бака с кипятком, Лёня и хрупкая городская девушка. Она тоже ехала в Москву, возвращалась домой после короткого отдыха в Крыму, и тоже сдавать вступительные.
В приёмной комиссии Лёня посмотрел краем глаза на особу, подошедшую к столику с заполненными, как и у него, бумагами, и… замер. Первым его желанием было стать невесомым и прозрачным. Он начал тихонечко отступать. Но оказалось поздно: их взгляды встретились.
– Так густо, – признаётся он, – я не краснел в жизни ни до, ни после. Стою пунцовый и про себя возмущаюсь самим собой: а что, собственно, произошло-то? Ну чего я так разволновался? И ей, я вижу, тоже неловко. Но, ещё раз взглянув на меня, она улыбнулась сочувственно. Как будто извиняясь, что всё время попадается мне под ноги и сбивает с пути.
И эта улыбка её во мне что-то произвела раньше, чем я осознал происшедшее, чем успел внутри себя эту ситуацию проговорить. А проговорил что-то пошлое:
– Это судьба?
Она подняла брови, сказала взглядом: «Не знаю». Но промолчала. Подала свои бумаги и документы, её о чём-то спрашивали, она отвечала. Я всё это время стоял в стороне. Потом они раскланялись с преподавателем, она щёлкнула своей сумкой и пошла, не обернувшись. Я догнал её, забежал вперёд, даже не представляя, чего хочу, и говорю антикварными словами:
– А вы меня более не удостоите взглядом?
Она в первое мгновение как будто прислушалась к моему вопросу, потом смех начал переполнять её, но она изо всех сил сдерживалась. Теперь у меня, как у неё когда-то в вагоне, нарисовался на лице вопрос. И тут она приветливо, не как я неделю назад, ответила:
– Вы не поверите, как интересно: мне дедушка часто повторяет, что жизнь – стечение совпадений. А я как раз вчера читала про картинки, помещённые в Невском альманахе, к Евгению Онегину. Вы не читали? Поищите.
Я что-то смутно припоминал. А она кивнула мне и пошла к выходу. Я сдал документы и пулей побежал за ней. Догнал в метро, вбежал в вагон, и за мной захлопнулись двери. И вот так всю жизнь её догоняю. И в учёбе, и диссертацию она раньше защитила, и в Церковь раньше меня пришла. А я дышу ей в затылок.
– А что там у Пушкина про картинки? – спросил теперь я у Лёни, пытаясь вспомнить.
– Ой! Да там прямо не в бровь, а в глаз: стоит Пушкин с Евгением Онегиным на набережной Екатерининского канала, и оба они, герой и автор, опёрлись о гранитный парапет. И хотя Петропавловская крепость от того места далеко, но никогда нельзя забывать, где она вообще находится. По крайней мере, не стоит демонстративно пренебрегать грозной крепостью, поворачиваясь к ней спиной в любой части Петербурга. Пусть она и не видна сейчас, пусть за домами или шпиль её в тумане – превозноситься не следует. И два мосьё, Александр Сергеич и Евгений, – отчего и засмеялась Аня – стоят и беседуют, «не удостоивая взглядом твердыню власти роковой». И вот Пушкин «к крепости стал гордо задом» и сам себя предупреждает: «Не плюй в колодец, милый мой».