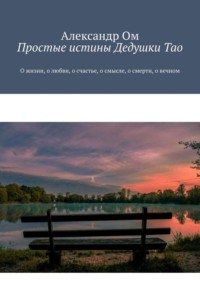Buch lesen: "Простые истины Дедушки Тао. О жизни, о любви, о счастье, о смысле, о смерти, о вечном"
Корректор Татьяна Исакова
© Александр Ом, 2019
ISBN 978-5-0050-6378-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оставить всех в покое
Когда-то давным-давно Дедушка Тао мне сказал:
– Саша, оставь всех в покое и займись собой. Нам всем еще столько нужно сделать с собой, что нам на это жизни не хватит. А что уж говорить о том, чтобы вмешиваться в жизнь других и якобы им помогать? Парадокс этого «эгоизма», впрочем, заключается в том, что когда ты сам начнешь изменяться к лучшему, то и другие тоже будут изменяться и весь мир вокруг тебя постепенно изменится.
Когда я это понял, то у меня все в жизни стало получаться и укладываться как надо. Правда, пока я это понял, я то и дело донимал Дедушку Тао своими вопросами, а он мне терпеливо отвечал.
Время забудет о тебе
– Дедушка! Почему одни женщины стареют быстро и от их былой красоты почти ничего не остается, а других годы не портят? Они сохраняют молодость и продолжают быть такими же красивыми, ну вот как, например, твоя жена? – спросил я как-то Дедушку Тао.
– Что? Ты это тоже заметил? – улыбнулся он, а потом сказал: – Видишь ли, Саша, те, кто красив независимо от времени, всегда были любимы и сами до сих пор любят. Они времени не замечают. И время не замечает их. А те, кто… Ну это ты уже и сам понял. А вообще-то, любовь – это огромная сила. Она наполняет душу энергией, и тогда душа радуется. Ей ведь нужна прежде всего любовь, как цветку солнце. Тогда она раскрывается и благоухает. А если цветок не раскрыт, то как же он будет благоухать?
Потом, немного помолчав, он добавил:
– Мы же, Саша, приходим в этот мир прежде всего за тем, чтобы научиться по-настоящему любить, а не требовать ее от других. Если ты любишь, то и тебя будут любить. Так что, Саша, люби свою жену, целуй ее, обнимай, ласкай, и она всегда будет красива, как цветок. Ей ведь от тебя больше ничего не нужно. Только это. Да и ты сам будешь наполняться ее любовью, и неумолимое время забудет о тебе.
Музыка тишины
– Саша, а ты что так – перестал играть на гитаре, не пишешь песен? Я уже давно не слышал, как ты поешь, – удивил меня однажды вопросом Дедушка Тао.
Я действительно уже давно не брал в руки гитару. Она стоит под лестницей в коридоре между нашей спальней и комнатой старшего сына. Я хожу мимо нее по несколько раз в день и только иногда бросаю на нее свой взгляд. Она спокойно стоит и молчит.
– Да все как-то времени нет. То одно, то другое, – ответил я, а потом добавил: – А вообще, знаешь, когда-то мне и писалось, и пелось легко. Многим даже нравилось то, что я сочинял. В рок-группе даже играл. Но однажды я подумал, что вообще-то это не имеет смысла, поскольку если я хочу быть популярным, то должен постоянно создавать что-то новое и пытаться удивлять слушающих – то есть быть постоянно «на плаву». А если нынче самих «Битлов» уже мало кто слушает, то что можно сказать обо мне. Значит, это не мое, решил я тогда и отставил гитару. Я лишь изредка поигрываю для собственного удовольствия да для близких, когда они просят, но все реже и реже, и ты знаешь, вот именно тогда я ощущаю настоящую радость игры и пения.
– Что ж, понимаю, – кивнул головой Дедушка Тао. – Может быть, ты и прав. Музыка должна исходить из глубины души, тогда это магия. А если душа не хочет, то зачем же ее мучить?
– А однажды я услышал иную музыку – музыку тишины и безмолвия, – чуть погодя добавил я. – И ты знаешь, Деда, сейчас эта музыка нравится мне все больше и больше. В ней столько всего!
– Ну, Саша, а вот за это тебе уважуха! – улыбнулся Дедушка Тао. – Тот, кто уже умеет слушать голос безмолвия и тишины, тот все ближе к Нему. Кто душой стремится к Нему, того с истинного Пути ничто не собьет, потому что, как ты сам заметил, тишина не безмолвна. В ней Его голос. Только мы обычно его не слушаем и потому не слышим, а она как музыка.
Искусство умирать
Однажды мы – Дедушка Тао и я – тихим поздним вечером сидели в саду за нашим домом. Уже окончательно стемнело. Над нами засияли звезды.
– Деда, а ты боишься смерти? – спросил я Старика.
– Да нет, – ответил он. – А чего ее бояться-то?
– Ну как же? – смутился я. – Лично мне все таки как-то трудно вообразить, что вот я есть и вдруг… и вдруг меня нет. Весь мир вокруг остается, а я… уже не существую. Знаешь, я тут как-то читал у Гурджиева о том, как он однажды своих учеников попросил представить себе, что им осталось всего два часа жизни, так у меня аж мурашки по коже побежали от ужаса того, что и я когда-то умру.
– Хм, – усмехнулся Дед. – Ну хорошо, Саша. Вот скажи мне, а ты засыпать не боишься?
– Засыпать? Нет, конечно, – рассмеялся я. – Наоборот, сон – это так приятно. А почему ты, собственно, спрашиваешь о сне?
– Смерть, Саша, это как засыпание перед пробуждением. Только пробуждаешься уже без своего тела. Оно остается здесь, а ты дальше продолжаешь существовать, но тебя уже ничто не ограничивает. Ты свободен. Впрочем, эта свобода тоже относительна, но сейчас не об этом.
– Ну знаешь! – усмехнулся я. – Смерть как засыпание, конечно, хорошо звучит, но это всего лишь домыслы. Оттуда ведь никто не возвращался, чтобы нам рассказать, как все это там происходит в действительности.
– Саша, так-то оно так, но допустим, что кто-то оттуда вернулся и тебе рассказал, как там. Ты ему поверишь?
– Хм, наверное, все же нет, – усмехнулся я.
– Вот видишь?! Впрочем, что там ты? В последнее время о так называемом посмертном опыте уже появилась масса книг, написанных медиками-скептиками, которые сами хотели проверить то, о чем писал в свое время Моуди в известной книге «Жизнь после смерти» и которые записывали откровения пациентов, реанимированных после клинической смерти. Эти воспоминания в большинстве своем очень похожи. Так вот, другие ученые-скептики им тоже не верят. А вообще-то дело даже не в них, а в том, что мы перестали ощущать самих себя как души. Мы и в других видим лишь внешнюю оболочку. И живую природу мы перестали воспринимать как нечто одухотворенное. И в этом-то вся наша беда, Саша! А ведь заметь, что каждое живое создание, будь то животное или травинка, это прежде всего отдельная душа. Да что там животное или травинка? Каждая клетка организма – это тоже определенная душа. А душа, Саша, не умирает. Она вечна. Организм умирает. Это да. Но сам по себе организм – это всего лишь определенное уложение молекул, которые в свою очередь создают энергетический ресурс для того, чтобы душа, воплощенная в нем, могла расти и развиваться. Мы – люди – об этом забыли и потому боимся смерти. А вообще у нас за плечами не тысячи, а сотни тысяч воплощений. И впереди целая вечность. Если ты это понимаешь, то какой же может быть страх?
– Хм! – улыбнулся я, представив себе вечность. – То есть, по-твоему, животные не боятся смерти? – чуть погодя спросил я.
– Видишь ли, Саша, для них смерть и рождение – это как для нас засыпание и пробуждение, потому они и не знают, что такое смерть. Мы своих предыдущих воплощений не помним, а многие животные помнят, потому они и воспринимают свою настоящую жизнь всего лишь как продолжение предыдущей. Мы живем, помня лишь о предыдущих днях нашей актуальной жизни, а они, в отличие от нас, также помнят и прошлый опыт из предыдущих жизней. Во многом на этом, кстати, основывается феномен так называемых поведенческих паттернов, когда поведение животного обусловлено якобы врожденными программами. Программы, конечно, имеются, но они часто основаны на активной памяти об опыте из предыдущих воплощений, которых может быть тысячи в том же самом облике.
– Почему же тогда потенциальная жертва убегает от хищника, раз она не боится смерти? – удивился я.
– Вообще-то, следует учитывать, что потенциальная жертва прежде всего боится не самой смерти, а боли, связанной с насильственной смертью. Есть разница. А поскольку в дикой природе мало кто умирает своей смертью, то такое «засыпание» у них ассоциируется прежде всего с переживанием боли. Вот они и стараются ее избегать. Кстати, многие наши предки в стародавние времена, когда приходила старость и они начинали ощущать приближение смерти, просто уходили умирать в лес. Во многих архаических культурах, которые еще сохранились, это практикуется до сих пор. Для нас сейчас уже странно то, что, почувствовав приближение смерти, можно попрощаться со всеми домочадцами, потом лечь и уснуть, как мы говорим, навсегда.
– Да уж, вообще-то было бы, конечно, круто, когда состаришься, вот так лечь и отойти в мир иной без боли и страха. А кроме того, не создавать проблем своим близким, если уж ты становишься немощным и обузой для них, – сказал я, глядя в звездное небо.
– Да, Саша, раньше это было обычное дело. А сейчас тебе уже не дадут спокойно умереть. Существует общепринятое мнение, что пациента необходимо спасать любой ценой – и скорая помощь приедет, и в реанимации будут тебя откачивать, и так далее и тому подобное. Это, конечно, гуманный подход, но… но благими намерениями, как известно, часто дорожка в ад стелется, как для самого умирающего, так и для его близких. Во всяком случае сейчас, если уж кто-то и хотел бы умереть спокойно, так ведь не дадут. Впрочем, большинству людей до поры до времени, наверное, лучше и не знать о том, что смерти нет. Хотя вообще-то они и так не поверят в то, о чем я тебе говорю.
Дед на какое-то время замолчал, а потом повернулся ко мне и спросил:
– Ты-то хоть мне веришь?
– Верю, Деда, – кивнул я. – Конечно, то, что ты говоришь, не совсем обычно, но я тебе верю.
– Ну и хорошо, – сказал он, а чуть погодя добавил: – А вообще, Саша, когда я буду умирать, то ты, пожалуйста, не звони в скорую помощь. Дай мне спокойно умереть. Ладно?
– Ладно, Деда.
– Обещаешь?
– Обещаю, – проговорил я, все же не сумев скрыть своего сожаления.
– А ты что так насупился-то? Я же не завтра собираюсь умирать, – улыбнулся он.
– Да, знаешь, – попытался я объяснить ему то, что вызвало у меня сожаление, – вот вроде бы я понимаю то, что ты говоришь, и верю, что смерти нет и все такое, но все равно как-то грустно.
– Что ж, я тебя понимаю, Саша. Да ты, вообще-то, так не переживай. Мы там опять встретимся. Там все родственные души встречаются. Веришь мне?
– Верю, – усмехнулся я, взглянув в улыбающиеся глаза Дедушки Тао. – Но мне все равно нужно к этому привыкнуть. Все это как-то необычно.
– Ну, привыкай, Саша, привыкай! К новому необычному всегда трудно привыкать.
– Ты-то хоть перед этим со мной попрощаешься? – спросил я, серьезно посмотрев на Деда.
– Конечно. Обязательно попрощаюсь, – усмехнулся он в ответ и прижал меня к себе, теребя по плечу своей мягкой, но вместе с тем еще такой крепкой и горячей ладонью.
Если встретились два человека
– Саша, а что это Миша и Аня давно у нас не появляются? – спросил меня однажды Дедушка Тао.
Миша и Аня – это мои друзья со студенческих времен, с которыми я часто проводил время.
– А представь себе, Деда, они развелись.
– Да ну! – воскликнул Старик. – Такая хорошая пара, и вдруг, вот те на, расстались. Надо же! Они так подходили друг другу. Они же вроде бы никогда не ссорились.
– Да и я тоже этого не припоминаю, – задумался я.
– Никогда бы не подумал, что они могут разойтись. Сколько же они прожили вместе? – спросил Дед.
– Ну, если мы окончили институт десять лет назад, а они познакомились на первом, то лет пятнадцать, – подсчитал я.
– Все же немало, – кивнул Дедушка. – А чего они не поделили-то? – чуть погодя спросил он.
– Хм. Я даже и не знаю, – пожал я плечами. – Вообще-то, для меня это тоже было неожиданностью. Впрочем, они взрослые люди. Видимо, устали друг от друга, вот и расстались, – усмехнулся я.
– И давно они, Саша, расстались?
– Да уже, наверное, месяцев пять, – прикинул я.
– А что – кто-то из них кого-то другого встретил? – продолжал меня допрашивать Дед.
– Честно говоря, Деда, я не знаю. Впрочем, Миша мне ничего не говорил. Я его как-то случайно встретил у метро, поговорили о том, о сем. Я их к нам пригласил, а он мне сказал, что они расстались. Так я и узнал об этом.
– И что, он переживал?
– Да вроде бы нет. Меня вообще-то тоже удивило то, что он как-то спокойно об этом сказал. Обещал зайти, но как ты сам видишь…
– Жаль, конечно, что люди не ценят того, что у них есть свобода выбора другого человека! – с сожалением сказал Дед.
– Что ты имеешь в виду, Дедушка? – удивился я.
– Заметь, Саша, что сейчас такие времена, что разводов вообще не должно быть, а по статистике, как ни странно, каждая вторая пара расстается.
– Почему не должно быть? Люди сами сходятся. Потом сами же и расходятся. По-моему, это даже хорошо, что есть такая возможность. Не то, что раньше – родители, не спрашивая, тебя женят на ком-то, кого ты видишь впервые, и потом живи всю жизнь с этим человеком и мучайся. Хорошо, если умная и красивая достанется! А если нет, тогда что? Так и будешь жить без любви.
– Вот именно, Саша! Раньше люди без любви соединялись, а потом многие из них всю жизнь в любви и согласии проживали. А сейчас сходятся ведь по любви, но потом она куда-то пропадает и человек не помнит, что по любви выбирал другого. И самое главное, что ведь никто ему этого человека не навязывал. Сам выбирал! Поэтому я и говорю, что люди не ценят того, что у них есть такая уникальная вещь, как свобода выбора. Ведь вообще-то сама по себе встреча в таком большом мире другого человека, в которого ты сразу же влюбляешься и который становится твоей половинкой на всю жизнь, это же почти чудо! А люди в большинстве своем не ценят этого чуда и даже забывают о нем.
– Деда, но ведь люди иногда устают друг от друга и естественно в какой-то момент хотят расстаться. Что тут странного? Хорошо, что есть такая возможность! Не то, что раньше.
– Конечно, Саша, в какой-то мере ты прав, но тогда они уже живут без любви. А без любви, Саша, человек неполноценен, а значит, и жизнь неполноценна. Поэтому любви нужно учиться, а особенно когда тебе кажется, что ее уже нет. Тогда нужно почаще вспоминать тот момент, когда ты встретил своего любимого или любимую и влюбился, и почаще вспоминать то чувство, которое ты тогда испытал. Обычно это не забывается.
– Ну хорошо, Деда, а как люди в старые времена проживали жизнь, как ты сказал, в любви и согласии, хотя иногда встречали друг друга впервые в день свадьбы? – спросил я. – Неужели у них со временем появлялась любовь?
– Ну да.
– Возможно такое вообще?
– Видишь ли, такая любовь возникала постепенно в процессе взаимного труда и взаимного проживания, совместного хозяйства, появления детей и заботы о них. Постепенно появлялась привычка друг к другу – привычка в хорошем смысле, а за ней и уважение друг к другу. Мало того, издавна были известны специальные способы, чтобы помочь молодым решать какие-то обиды, споры между собой и тому подобное, а тем самым налаживать совместную жизнь.
– Интересно, какие?
– Ну, например, дедушки и бабушки забирали к себе внуков на субботу и тем самым давали возможность молодым остаться вдвоем и вновь ощутить себя наедине друг с другом. Тогда можно было выяснить какие-то разногласия или недомолвки, если такие появлялись в будни и которые трудно было в эти будни разрешить. А после выяснения отношений, как ты сам наверное знаешь, любовь проявляется еще сильней и еще более страстно. Так постепенно любовь и возникала, росла, крепла, и люди проживали совместную жизнь спокойно и счастливо, хоть начинали ее часто вообще без этого чувства. Любовь ведь нужно лелеять, беречь и ценить. Без этого она быстро улетучивается. Она требует терпения к другому человеку и, главное, усмирения собственной гордыни. Если оба супруга стараются, то любовь обязательно возникнет, и из малой искорки она постепенно превращается в огонь. Так и создается семейный очаг, у которого всем домочадцам тепло и уютно. Без малой искорки огня ведь не получится, а значит, душе всегда будет холодно и неуютно в этом мире. Вот так вот, Саша!
– Хм, – задумался я. В голове у меня звучали слова Деда и вспоминалась моя жена. Я хорошо понимал то, что он имел в виду. Затем вспомнился Михаил, говорящий: «Да мы, Саня, уже не живем вместе. Мы расстались».
«Интересно, что будет с ними дальше?» – подумал я.
Тише воды, ниже травы
– Дедушка, все говорят, мол, просветленный такой, просветленный сякой, а я, честно говоря, в своей жизни еще ни одного так и не увидел. Может, таких и нет вовсе? – спросил я как-то Дедушку Тао.
– И не увидишь, – невозмутимо ответил он.
– Это почему же? – удивился я.
– Потому что если уж кто-то просветлен, то ты от него об этом не узнаешь. Он, брат, будет тише воды, ниже травы. Мало того, ты его среди обычных людей вообще не отличишь.
– Хм, – удивился я. – А как же тогда понять, кто просветлен, а кто нет, и как найти такого?
– А никак, Саша, – ответил он, – но будь спокоен. Придет время, и ты встретишь своего учителя. Это будет так неожиданно для тебя, что ты сам удивишься. Так было и со мной. Мой учитель, когда я его встретил, был настолько обычный, что если бы мне кто-то тогда сказал, что он просветлен, то я бы просто рассмеялся. Он проработал на нашем предприятии технологом лет, наверное, тридцать, и никто не подозревал, что он просветленный. Я вообще-то сам пять лет работал чуть ли не рядом с ним, пока не понял этого.
– Неужто он ничем не отличался? – удивился я.
– Нет, ну так, конечно, нельзя сказать, что он вообще ничем не отличался. Но представь себе, что он не пил, не курил, по бабам не шастал. На всяких там собраниях молчал. Никого никогда не поучал и не критиковал. А вместе с тем шутник был еще тот – когда иронизировал над кем-то, то это было очень весело, но никогда никого не обижало. У него и в жизни все как-то так ровно укладывалось, как по цепочке – одно за другим без особого труда. Мало того, ему несколько раз предлагали руководящую должность, но он отказывался, хоть и деньги обещали намного большие, чем он зарабатывал. Вообще корректный был мужик. Я, честно говоря, узнал, что он просветлен, совершенно случайно. Как-то в командировку поехали вместе. Несколько дней в машине в одной кабине провели. Пока ехали, говорили про жизнь, про смысл, про то, про се. Меня тогда по молодости все это очень интересовало – как тебя сейчас. Ну я и начал вслух об этом размышлять. И, представь себе, он мне Абсолютный Смысл в двух словах объяснил, и чуть ли не на пальцах. Я был вне себя от восторга. А потом, когда мы вернулись обратно из командировки, то продолжали быть просто приятелями. Вернее, это он относился ко мне как к приятелю, а я его уже считал своим учителем.
– И что? Ты никому не сказал, что он просветлен? – удивился я.
– Саш, да кому об этом рассказывать-то? Меня бы на работе высмеяли – что б Петрович и просветленный?! Ты что? Во-первых, он бы и сам рассмеялся. А к тому же большинство людей это вообще не интересует. Так что это так и осталось между нами. Потом, правда, оказалось, что он к тому времени уже несколько лет даже школу вел, и об этом тоже мало кто знал на предприятии.
– Слушай, Деда! Но если он школу вел, то об этом другие должны были узнать, – не унимался я.
– Ну, школа – это все же слишком громко сказано. Мы называли это школой, а он ее никак не называл. Было у него несколько учеников. Среди них и я тоже. Но в основном это были люди, которых действительно интересовало то, о чем мы с тобой обычно говорим. Он ведь, заметь, никому ничего насилу не втюхивал. Появлялся вопрос – он отвечал. Не спрашивали – не лез со своими советами да мудрствованиями, как некоторые. Потому и учеников у него было немного.
– Не, ну вообще-то ты тоже… Ты многое мне даешь.
– Э, что там я! Вот Петрович был… это да. Одним словом Человек, а вместе с тем тише воды, ниже травы.
– И что, где он сейчас?
– А я даже и не знаю.
– Как не знаешь?
– Пришло время, мы расстались. Давно это было – лет, наверное, тридцать тому назад.
– Неужели тебе не хотелось его найти и с ним пообщаться? – удивился я.
– Поначалу, конечно, хотелось, но потом я понял, что даже если мы встретимся снова, то я даже и не знаю, о чем мы с ним будем говорить и о чем мне его спрашивать. Посидели бы, наверное, просто помолчали, чаю попили, да и пошли бы каждый по своим делам. Понятно уже все. Что говорить-то?
– Не, ну а как у него жизнь? Или, там, как его дела?
– Да хорошо у него все.
– Откуда ты знаешь, Деда, что у него все хорошо?
– Так ведь, Саша, он же просветленный. У него наверняка все хорошо, – посмотрел на меня, улыбаясь, Дедушка Тао.