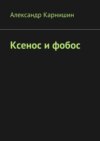Buch lesen: «Ксенос и фобос»
© Александр Карнишин, 2016
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
– Видите ли, в то время я уже верил в
Посещение, но я никак не мог заставить себя поверить
паническим корреспонденциям о горящих кварталах,
о чудовищах, избирательно пожирающих стариков и
детей, и о кровопролитных боях между неуязвимыми
пришельцами и в высшей степени уязвимыми, но неизменно
доблестными королевскими танковыми частями.
А. и Б. Стругацкие. Пикник на обочине
Ксенофобия (от греческих слов Xenos (чужой) и Phobos (страх) —
навязчивый страх перед другими людьми, а также ненависть,
нетерпимость к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому,
непривычному.
Пусть это будет прологом, хоть и не рекомендуется начинать книгу со сцены похмелья
Просыпаться было очень тяжело и болезненно. Просыпаться было просто мутно и тошно. Во рту буквально саднило от сухости – видимо, храпел всю ночь, лежа на спине, открыв рот и закинув голову за подушку. Шею ломило. Наверное, от того же. Голова кружилась, даже лежа, не двигаясь. Глаза упорно отказывались открываться – веки были тяжелыми и как будто даже шершавыми изнутри.
«Приехали уже, что ли?»
Поезд где-то стоял, и видно давно уже, потому что слишком тихо и пусто было в купе, в котором еще вчера вечером они так душевно пообщались с какими-то командировочными из столицы.
– Вставай, сука! – и чем-то твердым в бок.
Ох… Это еще что такое? Больно же!
Василий с трудом открыл глаза и уставился в верхнюю полку, пытаясь сфокусировать взгляд. Голова сразу закружилась еще сильнее.
– О-о-ой…, – простонал он.
– Что, падла, может, похмелиться тебе принести-подать? Встать, я сказал!
Огромная волосатая рука с засученным серым рукавом собрала рубаху на груди, скомкала, и стащила его на пол между нижними полками. Перед глазами все поплыло, внутренности подскочили к горлу, зашевелились где-то сразу под кадыком, и с большим трудом удалось оставить их где-то внутри. Судорожно сглотнув, Василий тяжело поднял глаза от грязного коврика, в который уткнулся носом. Перед ним возвышались две пары высоких черных ботинок, переходящих еще выше в мешковатые темно-серые форменные брюки. Осторожно, стараясь не мотнуть головой, он как жук повозился, неуклюже переворачиваясь на спину, присел на корточки…
– Ох, блин…
– Это он, он, – испуганно защебетала за спинами крупных мужиков в форме и с короткими автоматами, выглядевшими какими-то игрушечными в их здоровенных руках, проводница, еще вечером умильно улыбавшаяся подвыпившим мужикам, радушно приглашающим ее в свое купе.
– Документы! Эй, ты, чмо похмельное, документы какие есть? Слышь, ты!
– Ща-а-а…, – сухой язык совсем не двигался. Губы потрескались от жажды. Что же они вчера такое пили-то? Ядреное такое… Термоядерное, черт его… И почему все ушли, бросив его одного? Или же он так был пьян, что даже разбудить не смогли? Что вообще происходит? И почему здесь милиция? Проводница, видать, вызвала? Вот ведь гадость-то какая…
– Побыстрее, – раздался скучный голос из коридора. – Поторопите его, ребята.
– Ых-х-х…, – только и смог выдохнуть Василий, когда твердый носок ботинка метко врезался прямо в копчик. – А-а-а! Больно же!
– Шевелись, козел! Документы есть?
– Вот, паспорт…, – механически вытянул, с трудом повернувшись к дверям, из кармана висящей на вешалке куртки кожаную обложку, протянул не глядя в сторону двери.
Пролистали быстро:
– Ага, точно, наш клиент. На выход!
– А что, собс-с-сно, случилось?
– Вперед, говорю! Заждались уже, мать твою!
– Вещи… мои… Ик! – Василий стыдливо прикрыл рот рукой, пытаясь одновременно другой приподнять полку.
– Забудь, – пинок в бок. – Забудь, м-м-мать… Бегом! Бегом, сказано!
Пинками и тычками его выгнали в коридор и, толкая все время твердым и каким-то острым стволом автомата в спину, погнали к выходу. Проводница юркнула в соседнее купе и выглядывала оттуда испуганной мышкой.
Василий, покачиваясь от стены к стене в узком коридоре, перебирал ногами «на автомате», так же автоматически нашаривал рукава наброшенной второпях куртки и одновременно пытался хоть что-то понять. Что случилось-то этой ночью? Почему – милиция? И вообще…
Поезд стоял не у вокзала, а где-то, вроде, на сортировочной, что ли. Рельсы разлиновали серыми параллелями большую площадь. Стояли рядом еще какие-то составы. И у каждого стояла милиция. Выводили под серым мелким дождем каких-то людей, грузили в два небольших автобуса с закрашенными белой краской окнами, и один уже резво тронулся с места, клубя пылью и соляркой. В другой впихнули Василия. Стоявший в проходе милицейский чин что-то черкнул в своей тетради, толкнул его молча на свободное место на переднем сидении, еще раз окинул взглядом наполненный тихими молчаливыми людьми автобус, крикнул сидящему в конце автоматчику:
– Смотри тут! – и выскочил.
Вместо него вошел один из тех, что гнали Василия, и присел на верхнюю ступеньку. Двери закрылись, автобус сразу тронулся.
– А что тут такое? Что случилось-то? – шепотом спросил Василий у соседа.
– Молчать! Не разговаривать! – тут же откликнулся милиционер, пошевелив со значением стволом автомата.
Пролетев на скорости станцию – точно, Сортировочная! – автобус повернул направо, к лесу.
Поезд за их спинами дернулся, лязгнул сцепками, гуднул коротко и плавно двинулся вперед, к мосту через Каму, продолжая свой маршрут. Через полчаса, а то и всего через двадцать минут он остановится у вокзала, люди потянутся к выходу, их будут встречать родственники…
Так его же будут встречать!
– Товарищ сержант, – приподнялся с места Василий. – А как же – вещи-то мои? И потом, меня же встречать… Ох!
Удар в спину перешиб дыхание. Поскуливая на выдохе от боли, он сполз на сидение.
– Всем молчать! – проорал подошедший сзади автоматчик. – Молчать, мать-перемать, а то я сам не знаю, что с вами сделаю! И ничего мне за это не будет, с-с-суки!
– Сядь, – лениво бросил, поднимаясь со ступенек в салон, сержант.
Он встал в проходе, придерживаясь левой рукой за поручень. Правая крепко держала автомат, направленный на бывших пассажиров поезда.
– Для информации. Запомните: с этого момента вы в нашем праве. Мы – ваши командиры и ваши защитники, – спокойно и размеренно, без улыбки, которая была бы принята за издевку, а все сказанное – за глупую шутку, чеканил он слова. – Если бы не мы, то еще неизвестно, что и как с вами было бы. Но и мы здесь не каменные… Поэтому, сказано вам молчать, значит – молчать. Скажем, кричать – закричите. Ясно?
Все молчали, смотря на него с испугом и непониманием.
– Да-а-а… Совершенно необученный народ… Ну-ка, тормозни, – повернулся он к водителю. Тот послушно остановил автобус.
– Еще раз спрашиваю: ясно? – левой рукой направил ствол автомата прямо в лица, обращенные к нему, а правой громко, напоказ, щелкнул предохранителем.
– Ясно, ясно, – закивали торопливо бывшие пассажиры поезда.
– Не вижу ясности, – поскучнел лицом сержант. – Будем тренироваться, пока не достигнем консенсуса. Всем ясно?
– Яс-но! – хором, как в школе.
– Ну, слава богу… Я уж думал – совсем идиёты тупые… Тронулись!
И автобус, плавно тронувшись, быстро набрал скорость, удаляясь от населенных мест.
Василий тупо смотрел прямо перед собой, мучаясь от тяжкого похмелья, мешающего нормальному течению мыслей. Но это же не сон! Синяк теперь будет во всю спину, это точно – к доктору не ходи. И от пинков тоже… Переворот, что ли, какой-то, пока ехал? Но с чего бы? Или как в кино – налет на поезд, что ли?
Он приезжал в свой город два раза в год из Москвы, в которой «зацепился» за работу, и из которой пока не собирался уезжать. Приезжал, потому что родители стали уже старыми, и каждый их день рождения мог стать последним. Вот и в этот раз зимой он приезжал к отцу, а теперь, в июне, к матери.
Погода, как и обещали в прогнозах на эти дни, была не жаркая. В переднее стекло автобуса начал моросить мелкий дождь, почти туман, стекая по краям и мешая увидеть, где же проезжают. Но Василию погода вовсе была не интересна. К родителям он ехал не отдыхать, почти как на работу. Надо было сидеть, улыбаться, выслушивать в тысячный раз истории о болезнях и жалобы на старость, утверждать, что ничуть они не постарели, убеждать их, что у него все хорошо, успокаивать, веселить…
Старший брат всегда встречал его на вокзале, рассказывал последние новости. И кого он теперь встретит там, на вокзале, когда поезд подъедет? Они же почти доехали! Это же практически его родные места! Холмы, сосны эти. Станция. До нее же пешком иногда доходили от дома, когда гуляли пацанами по окрестностям.
Василий повернулся, было, опять к соседу, так же мрачно смотрящему куда-то в пространство, но на его движение тут же среагировал сержант. Он с интересом, наклонив по-собачьи набок голову, посмотрел на Василия, шевельнул со значением рукой с автоматом, и тот снова молча уставился перед собой: должны же они – кто это «они», интересно? – когда-то им объяснить, что и как случилось. И почему с ними вот так? И вообще…
Часть 1. Зима
Глава 1
Вот слева пристань Закамск. Это уже заречный Кировский район Молотова. Вдоль берегового яра далеко уходит сосновый бор. Но присмотритесь: сосны остались только у самого берега, а дальше, вглубь, все занято кварталами жилых домов, цехами предприятий. Кое-где сосны гуще, под ними расположены либо дома дачного типа, либо легкие постройки пионерских лагерей. Там, где сосняк кончается, возле пристани Нижняя Курья – дом отдыха.…
Вот над Камой отчетливо вырисовались пролеты железнодорожного моста, построенного более полувека назад. И до него, и сразу после него справа от нас берег занят причалами промышленных предприятий. Дым фабричных труб стелется над рекой.
Путеводитель «Волга. Кама. Ока. Дон»
Город был не то чтобы очень уж большим по нынешним временам, но и маленьким его никто не называл. Настоящий промышленный центр, почти «миллионник». Кое-кто из жителей поговаривал, что он площадью перекрывает некоторые известные столицы, но точные данные об этом (мол, в пять раз больше, скажем, Амстердама или в три раза – Брюсселя) никто никогда не обнародовал. Кто-то сказал даже, что только Москва больше по площади – но кто их мерил и сравнивал? Некоторые считали также, что город и длиной своей уступает в стране разве лишь одному Волгограду, что весь, как кишка, вытянулся на юге отсюда вдоль Волги, а в ширину был при этом всего-то метров пятьсот. Ну, и еще Сочи, говорят, был длиннее. Но что там за город, этот Сочи? Набор курортных поселков с блестящими витринным стеклом корпусами санаториев и гостиниц вдоль галечных пляжей кавказского побережья Черного моря.
В Молотове скучные жилые массивы из стандартных серых еще маленковских пятиэтажек сменялись глухими бетонными заборами промышленных зон, те вдруг утыкались в настоящий плотный сосновый лес, чуть ли не посреди города, а дальше шли кварталы одно- и двухэтажных деревянных черных от времени домов, которыми ранее был застроен весь город. Потом снова лес, снова дороги, снова промзона, вдруг квартал или два современных высоток, сверкающих отмытым стеклом, а рядом с ними, почти под окнами – какие-то огороды, сараюшки и дачки. Если смотреть сверху – такая разлапистая конструкция из пятен кварталов среди зелени леса, связанных тонкими нитками дорог.
И если где-то в другой местности горожане признавали друг друга за земляков и вместе горло драли за «наш город – культурная столица края!», то дома, встречаясь ненароком, распознавали «своих» по устоявшимся прозваниям отделенных рекой и лесными массивами районов: с Гайвы, с правого берега, с Мотовилихи, с Центра, с Парка… Правобережные еще говорили о себе «с первой (второй, третьей) зоны», и жителю одной зоны болтаться без дела в другой совсем не рекомендовалось – могли и побить. Но все зоны объединялись, если речь шла о том, чтобы «стукнуться» с левобережными, с «городскими».
Правый и левый берег Камы соединяли три моста – два автомобильных и железнодорожный. А кроме того летом можно было добраться из центра «на тот берег» с помощью речного трамвайчика – небольшого ярко раскрашенного теплохода, медленно и не часто, раз в час-полтора примерно, довозящего до пристани на песчаном пляже у подножия высоких ярких на солнце рыжествольных сосен напротив центральной набережной тех, кто никуда не торопится. Но это бывало только летом, только при хорошей погоде, в школьные каникулы. А в обычное время большинство заозерских, скажем, или тех же гайвинских ездили в центр только по случаю большого праздника, или еще, если надо было пройтись по магазинам перед новым учебным годом, потому что магазинов на левобережье было традиционно в разы больше.
Димка Карасев был как раз с Гайвы, из самых крайних домов, первых, начала пятидесятых годов, когда строители сдавали ГЭС и расселяли по квартирам персонал, а Ирина – со старой Мотовилихи, откуда исторически пошел весь город. Поэтому познакомиться они могли только случайно. Или вот так, как это бывает чаще всего: они просто вместе учились в одном институте.
В июне закончились выпускные экзамены в школе, и уже на третий день после выпускного вечера (на второй-то день никто и не думал просыпаться) Димка поехал в центр – еще местные говорили о таких поездках «в город» – чтобы подать документы в приемную комиссию.
В школе, когда спрашивали его, куда пойдет, он пожимал плечами, потому что и правда еще не знал. Но чем ближе был выпускной вечер, тем яснее становилось, что на престижные специальности в университет или в политех ему просто не попасть. Уезжать от матери он тоже не думал. А так – средний ученик, средние отметки в аттестате – куда ему? В армию, разве что ли? И тогда он вспомнил о своей любви к истории и историческим книжкам, и стал готовиться в «пед».
Друзья смеялись:
– Ты что, правда, в школе работать хочешь?
А он просто знал совершенно точно, что если не поступит в этом году, то не поступит уже никогда и никуда. Уже осенью его могли забрать в армию, потому что восемнадцать ему исполнялось в ноябре. А в педагогический институт парней всегда брали с охотой. Вот и отвез документы на исторический факультет. Постоял у старинного здания под огромными тополями с листьями на нижних ветках, размером с настоящие лопухи, послушал разговоры такой же «абитуры», заполнил анкету, приложил аттестат…
А потом были экзамены, пролетевшие как-то очень быстро и почти незаметно.
История была первым экзаменом, а сочинение писали в самом конце. Он почему-то совсем спокойно, без нервов, сдал все на «четверки», и так же спокойно, до конца еще не поняв и не осознав случившегося, доложил матери, что все в порядке – поступил.
Мать «поднимала» его одна. Это она так говорила – «поднимала». Ну, конечно, ей было тяжело. Одной приходилось тащить работу и дом, кормить-одевать. Димка все это понимал. Но все равно как-то отношения у них не складывались. Не было той любви, которую он с завистью наблюдал в семье у друга Лёшки. Ну, не интересно Димке было с матерью. И слушать раз за разом, как все и везде плохо и трудно, как тяжело жить, какой гад его отец, которого он и не знал вовсе, как все в магазинах дорого, как на нем, на Димке, все буквально горит, а денег опять же нет, как все вокруг воруют, а они вот честные…
Честные, да бедные. В общем, он с детства старался быть почаще один. И она давно привыкла, что видит сына только поздно вечером или рано утром.
Узнав, что Димка поступил, она купила бутылку дешевого вина, приготовила праздничный ужин, и сидела до самого вечера, ожидая возвращения сына и названивая по телефону всем знакомым и родственникам, хвастаясь радостно:
– А Димка-то мой, какой ведь молодец, а! Поступил, ага. Учителем теперь будет. Или даже директором, как Орлов (это она о директоре Димкиной школы). Что? Нет, сейчас-то нет его еще. Он в библиотеке сейчас. А вечером-то мы праздновать будем, ага. Обязательно будем. Я понимаю, конечно, что вам некогда… Но, если что – вы приходите, ждем ведь.
Конечно, как обычно никто не пришел. И вечером они вдвоем тихо распили бутылку сухого импортного вина и съели маленький круглый тортик, сидя перед старым телевизором, сообщившем в местных новостях о начале очередного ремонта одного автомобильного моста.
С осени Димка начал ежедневно ездить на автобусе (или на автобусах, если приходилось делать пересадки) в свой институт. Учеба была делом привычным и по школьному немного скучным. Лекции, конспекты, домашние задания, чтение учебников и книг по теме, ранние подъемы, невысыпания, дрёма в толкучке автобусов, прижавшись к поручню. Иногда Димка ловил себя на том, что засыпает на лекциях. Даже на любимой раньше истории! Просыпаясь внезапно, вздрагивая, вскидывая голову, видел перед собой раскрытую тетрадь с каким-то почеркушками вместо записей и длинной линией вниз – это, наверное, когда он совсем уже засыпал.
После учебы, если была хорошая погода, он спускался по узкой улочке к набережной и вдоль реки, мимо литой чугунной решетки, пешком шел к мосту, где долго стоял на остановке, «ловя» свой автобус. Тем, кто жил в общежитии, было удобнее, но местным, своим, общежитие не давали.
Если погода была плохая, а осенью, зимой и весной так бывало обычно (бывало так и летом – здесь ходила шутка, что, мол, лето все-таки было хорошее, но в тот день как раз все работали), он задерживался в библиотеке, конспектируя очередной том из заданных к прочтению книг. Потом ехал к тому же мосту на трамвае, и опять ждал своего автобуса, чтобы, потолкавшись немного, повиснуть в нем на поручне и доехать до дома.
Дома обычно ждала к ужину мать. Она садилась напротив, смотрела, как он ел, и все пыталась поговорить, поспрашивать, как там и чего у него. Спрашивать ей было трудно, потому что сама она закончила только школу и больше нигде и никогда не училась. Поэтому большинство вопросов было о дороге, о здоровье – «голова не болит?», о погоде «в городе»… А после того, как отпраздновали узким кругом его восемнадцатилетие сразу после Дня милиции (приходили два друга – Лешка тоже поступил, но в университет, а Мишка провалил вступительные и теперь работал, дожидаясь повестки в военкомат), она среди вопросов все чаще, раз за разом, стала закидывать удочку насчет красивых девушек.
– А что, Дим, у вас же девочек-то больше, наверное, чем парней в группе?
– Больше, ага. Раза в два, – кивал он, ковыряясь вилкой в жареной картошке.
– Красивые девчонки-то?
– Симпатичные.
– А чего ты их не приглашаешь в гости-то? Пусть бы пришли, а я бы пирог вам испекла.
– Мам, ну, ты мне поесть-то хоть дашь спокойно? И потом, они тебе совсем дуры, что ли? Чего они такого тут забыли, чтобы с города ехать на Гайву нашу?
– А у меня для тебя другой квартиры в городе-то нету! – тут же начинала она обижаться и мокреть глазами.
– А я и не прошу ничего такого! – вскакивал он из-за стола и шел «делать уроки».
И так почти каждый день.
Красивые девчонки были. Как им не быть – красивым? Педагогический, да медицинский, что через пару кварталов от него, были настоящими цветниками распускающихся после школы красавиц. Только Димка-то понимал, что для них, для девчонок, он, гайвинский пацан в простеньком костюме, что еще от школы остался, в светлой рубашке, которую менял через день, в узком неярком галстучке, совершенно не интересен. Хорошо понимал. И если бросал на них взгляды, на красивых, то сам от них ничего не ждал. Да и некогда было ждать чего-то – учиться надо было, и дорога еще занимала часа два, а то и все три каждый день.
В ноябре сразу после дня рождения он получил повестку и сходил в военкомат, в Левшино, на левый берег, отнес справку из института, что учится на дневном. Там поругались, что поздно принес, погрозили, что вот сейчас погонят на сборный пункт, но все-таки сделали какую-то пометку в личном деле и отпустили. А во дворе уже строили в колонну призывников, чтобы вести их на вокзал.
Потом была зимняя сессия, и Димка сдал ее неплохо, без «хвостов», а поэтому стипендия, хоть и небольшая она, но осталась и на вторую половину года. Стипендию он приносил домой и клал в деревянную шкатулку на комод.. А потом из нее же брал ежедневно деньги на дорогу, да на обеды.
Мать была им довольна, и везде хвасталась на поселке, что, вот, мол, и не ждала вовсе такого, а Димка-то такой умный у нее, что ведь учится и учится, не то, что некоторые. За «некоторых» было обидно, потому что Мишка, с которым дружили с раннего детства, теперь работал простым электриком в ЖЭКе и все ждал повестки. Его должны были забрать весной, в апреле или в мае.
Еще мать почему-то сразу после Нового года стала сильно нервничать, если сын где-то задерживался. Они там, у нее на работе, трепали с такими же тетками языками, и получалось по их сплетням, что в городе было как-то все очень не спокойно, и люди вроде стали часто пропадать, и ужасы всякие… Она пыталась поговорить с Димкой об этом, но он только смеялся и совсем не понимал, что ей же не за себя – за него страшно.
А потом у Димки появилась Ирина.
Она вошла в аудиторию на второй паре и присела впереди на свободный стул. Зима, традиционно все одеваются в темное, и весь зал, вся поточная аудитория, был от этого как будто в сумерках. И вдруг сразу стало светло-светло от белого пушистого свитера с широким горлом и от ярко-рыжей гривы волос, ничем не закрепленных и создающих какой-то огненный ореол вокруг небольшой фигуры. Так светло и солнечно стало, что Димка не заметил сам, как стал улыбаться во весь рот, почти так, как обычно улыбаются дети солнцу, внезапно проклюнувшемуся сквозь мрачные черно-синие тучи.
После звонка, извещавшего о начале долгожданного перерыва в лекциях, она решительно пошагала к последним столам, повернула к Димке, встала перед ним во весь рост, выпрямилась и даже вытянулась, чуть ли не на цыпочки поднялась, чтобы выглядеть выше, и очень вежливо и строго спросила:
– А почему это вы надо мной смеетесь?
– Я? – только и смог переспросить ошарашенный парень, не догадавшись даже привстать с места.
– Ну, не я же… Вы все смотрели на меня и все смеялись. Почему?
– От удовольствия, – неожиданно для себя сказал он правду. И вдруг вскочил, засмущавшись и раскрасневшись. А она снизу вверх посмотрела на него веселыми серо-зелеными глазами из-под рыжей челки и сказала:
– Мужчина, а не угостите даму кофе?
Вернее, она сказала так – «кофэ-э-э-э», немного в нос, как будто по-иностранному. Это было смешно и одновременно очень приятно почему-то.
Они сбежали со следующей пары и гуляли вдвоем по морозному Компросу – Комсомольскому проспекту, тянущемуся от реки вверх поперек города. Забегали погреться в частые кафе и чайные. В городе были еще Большевистская и Коммунистическая улицы, был проспект Ленина, и вообще он, город этот, считался пролетарским, «чистым». Он еще и полузакрытым был. Хоть поезда ходили исправно, и самолеты летали, но иностранцу сюда путь был заказан. Военная промышленность, испытательные полигоны, секретные лаборатории, о которых знали все…
Они гуляли, сначала просто толкаясь плечами, но потом Ирина (ее звали Ирина! Она сама спросила его имя и сама, первая, не дожидаясь вопросов, назвала свое!) взяла Димку за руку, и до конца дня они прошагали так, держась за руки, как в детстве, ничуть не устав от долгой прогулки пешком. И говорили, говорили, говорили…
Он узнал о том, что она брала академический отпуск (правда, не спрашивал, почему так вышло, постеснялся). А она в подробностях узнала о его жизни до института.
Зимой темнеет быстро.
В семь Ирина вспомнила, что пора бы домой, что дома ее ждут строгие родители. Вернее, строгим был отец, скривила она унылую мордочку. А Димка сразу увязался провожать, потому что просто не мог вот так взять и расстаться. Так вот просто, раз – и разойтись. И они не сели на трамвай, а пошли пешком, то толкаясь, чтобы согреться, прыгая на одной ноге, то играя в снежки, то устраивая бег наперегонки. Ей надо было к Мотовилихе, в новые кварталы на круче, где он никогда не был, и только видел их, проезжая на автобусе по противоположному берегу.
Она устроила ему настоящую экскурсию, показывая те места, что были связаны с ее детством и жизнью «до института».
По темным улицам между еще более черных в окружении белых сугробов старых деревянных двухэтажных домов они два часа шли до рынка. Потом она дала Димке сотовый телефон, потому что у него просто еще не было своего. Ну, просто не хватало у них с матерью на это денег. И он позвонил домой, и предупредил маму, что придет очень поздно. А она, мама, спрашивала настороженно, трезвый ли он, и с кем гуляет, и по какому поводу, и где, и радовалась, что он не один вот, а с девушкой, видно. Но сказала, что все равно будет ждать, все равно не уснет, пока не дождется его.
По длинной-предлинной улице-лестнице вверх, туда, где сквозь расступившиеся тучи стало видно яркие на завтрашнюю солнечную погоду звезды. По хрустящему от вечернего мороза снегу мимо высоченных башен в двадцать четыре этажа – у себя на Гайве Димка таких еще не видел – к кварталу кирпичных особняков в окружении металлической ограды. Именно особняков, потому что назвать такие дома модным словом «коттедж» можно было только в насмешку. Двух и трехэтажные дома с балконами, лоджиями, эркерами, с одним или двумя подъездами, с широкой каминной трубой над крышей…
Ирина приложила брелок к кнопке замка на высокой железной калитке. Щелкнул металл, Димка рывком открыл, чтобы пропустить «даму» вперед, но она шагнула в сторону, смеясь, уступила ему дорогу:
– Ты гость. Тебе – первая очередь.
Он зашел в расчищенный от снега двор под яркий свет фонарей и остановился в растерянности – куда дальше? А дальше уже она вела его, прихватив за рукав. Направо, потом налево по дорожкам между высокими сугробами. Вот в тот подъезд. Тяжелая даже на вид стальная дверь. Опять электронный замок. Опять щелчок. Хорошо смазаны петли – дверь открывается легко, без скрипа. Ирина тянет его дальше, и Димка переступает порог, а дверь мягко и тяжело защелкивается сзади.
Тут темно и неожиданно очень тепло после долгой морозной прогулки. Небольшая площадка у дверей и сразу лестница наверх.
– У нас второй этаж, – шепчет Ирина, прижавшись к нему спиной. А он слегка приобнимает ее сзади и осторожно прикасается холодными с мороза губами к рыжим волосам на затылке. И замирает так, впитывая ее запах. И она – тоже замирает. А потом медленно поворачивается к нему, прижимается всем телом, запрокидывает голову, и уже ничего нельзя сделать, как только наклониться и коснуться губами губ. И еще раз. И еще. Губы сразу теплеют, как будто распухают даже, горячая волна бьет в голову, простые касания становятся поцелуями, а она вдруг со стоном повисает на нем. Димка подхватил ее, маленькую, легкую, приподнял, и посадил, радуясь своей силе, на перила. Теперь их лица были на одном уровне, дыхание смешалось, ее руки скользили уже у него под рубашкой – когда успел расстегнуть куртку, он уже не помнил. А его губы, оторвавшись от ее губ, спускаются короткими поцелуями на шею, он лицом окунается в распахнутый воротник, одной рукой дергая вниз молнию ее куртки. Она снова стонет и вдруг начинает дрожать. Это страшно, такого с Димкой еще не было, он не понимает, в чем дело, и подхватывает навалившуюся на него девушку. А Ирина, обхватив его руками и ногами, виснет на нем, дергается вдруг, и сползает вниз. И просто упала бы на пол, если бы он ее не подхватил опять.
– Я тебя хочу, – стонет она и даже как будто извиняется шепотом. – Очень хочу. Прямо сейчас. Здесь и сейчас.
Но тут вдруг открывается дверь на втором этаже, и из падающего на лестничную площадку света раздается мужской голос:
– Может, уже пора, Ирина? Домой – пора? Сколько же можно…
– Черт, черт, черт, – с ненавистью шепчет она. – Как же меня задолбало всё… Мент поганый – все слышит, все знает!
И кричит туда, в свет другим, веселым голосом:
– Иду! Сейчас уже иду!
Дверь закрывается, но не до конца, и в щель падает узкий луч света из прихожей, немного разгоняя темноту в подъезде. Глаза Ирины светятся отраженным светом, сияют, когда она смотрит на Димку.
– Завтра, Дим, ладно? Завтра мы снова увидимся. Я… Я с ума сойду или от стыда или от желания, если тебя не увижу. Ты приходи завтра в институт, а там…, – и она еще раз целует его в губы, по-взрослому, по-настоящему, так, что у него самого ноги слабеют, и голова сладко кружится, а потом отскакивает, делает два шага вверх по лестнице, останавливается и машет: иди, иди уже! Ты – первый!
Димка нашарил за спиной кнопку на замке, вышел на улицу, но еще долго стоял под вкопанной на газоне большой елью с остатками новогодних игрушек, пытаясь отдышаться. Сердце бухало, в ушах шумело. Было жарко. Он смотрел вверх, пытаясь угадать окно ее спальни, но ни одно окно так и не зажглось. И тогда Димка ушел.
Еще когда они гуляли, она спрашивала, как он доберется, если что, и он ее обманул, сказал что сядет на такси или поймает частника. Какое такси? У него денег оставалось только-только на автобус. Но время автобусов давно прошло, стоять на морозе – холодно, и он пошел домой пешком. Километраж примерно представлял, потому что карту города видел не раз. Вот теперь можно проверить, как это – пешком зимней ночью десять километров.
Димка шел по совершенно пустой улице, энергично отмахивая одной рукой, держа вторую в кармане. Потом руки менялись местами – замерзшая пряталась в карман, а согревшейся махал при ходьбе. Шаги он делал широкие, да еще старался почаще, так что холодно ему не было – было все еще жарко. Одно плохо – быстро задыхался и уставал. Приходилось останавливаться у попадавшихся на пути автобусных остановок, присаживаться на скамейки, задирать ноги вверх, чтобы кровь отлила, а потом снова – раз-два, раз-два, раз-два.
Уже у самого моста, сразу за плотиной, его догнал какой-то самосвал, то ли из припозднившихся с работы, то ли, наоборот, из самых ранних уже, притормозил:
– Куда, студент?
– На Гайву! Вон, сразу на въезде!
– Ну, садись, подкину хоть за мост.
И все равно вышло почти три часа. Или даже больше. Но вот и первая автобусная остановка в поселке – она как раз перед домом, за ней направо по знакомой тропинке, во дворы, к первому подъезду. Осторожно, чтобы не переколготить весь дом, он ковырялся длинным «гаражным» ключом в тяжелой недавно повешенной на подъезд железной двери, когда от стоявшей с погашенными фарами во дворе машины подошел милиционер:
– Документики ваши можно?
– А? – дернулся в испуге Димка – уж больно внезапно это было. – Да-да, конечно.
Он расстегнул куртку, повозился в карманах, достал паспорт, который всегда носил с собой – мать настояла и проверяла ежедневно, не забыл ли. Милиционер – старший лейтенант, рассмотрел звездочки Димка – взял паспорт, но не стал его даже раскрывать: