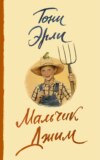Buch lesen: «Я умею прыгать через лужи»
Посвящается моим дочерям, Гепзибе и Дженнифер, которые тоже умеют прыгать через лужи
Серия «До шестнадцати и старше»

Alan Marshall
I CAN JUMP PUDDLES
Перевод с английского М. Прокопьевой
Печатается с разрешения Penguin Random House Australia Pty Ltd и литературного агентства Andrew Nurnberg.
© Alan Marshall, 1955
© Перевод. М. Прокопьева, 2020
© Издание на русском языке AST Publishers, 2021
Предисловие
Эта книга – история моего детства. На ее страницах я описал людей, места и события, сделавшие меня тем, кто я есть.
Но я хотел не просто законспектировать опыт маленького мальчика, преодолевающего проблемы на костылях. Я также хотел дать представление об ушедшей эпохе. Описанные здесь люди были сформированы той эпохой, и их время тоже проходит. Влияния, сделавшие их самодостаточными, прямолинейными и полными сострадания, уступили место влияниям, которые могут формировать характеры не хуже, но изменились лекала и результат совсем иной.
Чтобы представить картину жизни той эпохи, я вышел за пределы фактов в поисках истины. Иногда я менял сцены, обобщал персонажей, когда это было необходимо, менял последовательность событий, чтобы сохранить целостность текста, и вводил диалог, который тем, кто пережил со мной те лошадиные дни, может показаться странным.
Я прошу за это прощения. Фактов не всегда достаточно для подобной книги, и правду, на которую она стремится пролить свет, можно обнаружить лишь с помощью воображения.
Алан Маршалл
Глава первая
В ожидании повитухи, которая должна была помочь мне появиться на свет, моя мать лежала в маленькой комнатке на парадной половине нашего обшитого деревянной доской дома и смотрела в окно, за которым виднелись качавшиеся на ветру эвкалипты, зеленый холм и тени облаков, круживших над пастбищами.
– У нас будет сын, – сказала она моему отцу. – Сегодня мужской день.
Наклонившись, отец глянул в окно, где за расчищенными пастбищами высилась темно-зеленая стена леса.
– Я сделаю из него бегуна и наездника, – решительно заявил он. – Клянусь Богом, сделаю!
Когда наконец появилась повитуха, он улыбнулся ей и сказал:
– Знаете, миссис Торренс, я уж думал, мальчуган тут вовсю бегать будет, прежде чем вы до нас доберетесь.
– Да, я собиралась приехать еще с полчаса назад, – резким тоном ответила миссис Торренс. Это была грузная женщина с пухлыми смуглыми щеками и решительной манерой поведения. – Но когда настало время запрягать лошадь, Тед все еще смазывал бричку. – Она перевела взгляд на мою мать. – Ну, как вы себя чувствуете, милочка? Схватки уже начались?
«И пока она со мной говорила, – рассказывала мне потом мать, – я вдыхала аромат сделанной из акации рукоятки хлыста, висевшего в изножье кровати, – это был хлыст твоего отца, – и представляла, как ты мчишься галопом и размахиваешь им над головой, совсем как твой отец».
В ожидании моего появления на свет отец сидел на кухне с моими сестрами, Мэри и Джейн. Сестры мечтали иметь братика, которого они будут водить в школу, и отец обещал им братика по имени Алан.
Миссис Торренс вынесла меня, завернутого в красную фланелевую пеленку, чтобы показать им, и положила отцу на руки.
– Странные я тогда испытал чувства, – рассказывал он. – У меня сын… Я хотел, чтобы ты многому научился – ездить верхом, хорошо управляться с лошадями… ну и все такое. И бегать, конечно, тоже… Говорили, что ноги у тебя крепкие. Вот о чем я тогда думал. Так странно было держать тебя на руках. Я все гадал, будешь ли ты похож на меня.
Вскоре после того как я пошел в школу, я заболел детским параличом. Эпидемия, в девятисотые годы вспыхнувшая в Виктории, из более плотно населенных областей добралась и до глубинки, поражая детей на отдаленных фермах и в поселениях в буше1. В Туралле я был ее единственной жертвой, и люди на много миль вокруг, услыхав о моей болезни, приходили в ужас. Слово «паралич» в их сознании почему-то было связано с идиотизмом, и нередко кто-нибудь, остановив двуколку посреди дороги и перегнувшись через колесо, чтобы перекинуться парой слов со знакомым, спрашивал: «А умом-то он не повредился, не знаешь?»
На протяжении нескольких недель соседи старались поскорее проскочить мимо нашего дома, украдкой бросая при этом беспокойные, исполненные затаенного любопытства взгляды на старый деревянный забор, на необъезженных жеребчиков в загоне и мой трехколесный велосипед, валявшийся возле сарая. Теперь они раньше загоняли детей в дом с улицы, теплее кутали их и с тревогой присматривались к ним, стоило тем разок кашлянуть или чихнуть.
– Это обрушивается на тебя, словно кара Божья, – говорил мистер Картер, пекарь, искренне веривший, что так и есть на самом деле. Он был директором воскресной школы и однажды во время еженедельных объявлений, строго глядя на учеников, заявил:
– В следующее воскресенье во время службы преподобный Уолтер Робертсон, бакалавр искусств, будет молиться о скорейшем выздоровлении этого храброго мальчика, пораженного ужасной болезнью. Присутствие всех обязательно.
Прознав об этих его словах, отец подошел как-то на улице к мистеру Картеру и, нервно теребя свои рыжеватые усы, принялся объяснять, как я умудрился подхватить такую болезнь.
– Говорят, микроб просто вдыхаешь, – сказал он. – Он просто носится в воздухе – повсюду. И никогда не знаешь, где он. Наверное, он пролетал мимо носа Алана, когда тот делал вдох, и все, конец. Упал как подкошенный. Если бы в то время, когда микроб пролетал мимо, мой сын выдыхал, то ничего бы и не случилось. – Отец помолчал и грустно добавил: – А вы теперь за него молитесь.
– Спина создана для ноши, – с набожным видом изрек пекарь.
Будучи старейшиной церкви, он видел в этом несчастье длань Господню. А вот в большинстве вещей, которые доставляли людям радость, он подозревал проделки дьявола.
– Такова воля Божья, – с некоторой долей удовлетворения добавил он, будучи уверен, что подобное замечание понравится Всевышнему. Он всегда старался снискать расположение Господа.
Отец презрительно фыркнул в ответ на это философское замечание и раздраженно ответил:
– Спина этого мальчика не создана для ноши, и, позвольте заметить, не будет никакой ноши. Если где она и есть, то вот тут. – И он постучал загорелым пальцем себе по голове.
Позже, стоя возле моей кровати, он с беспокойством спросил:
– Алан, у тебя болят ноги?
– Нет, – сказал я. – Они как мертвые.
– Вот черт! – вскричал он, и лицо его исказилось мучительной гримасой.
Отец был худощавый, с кривыми ногами и узкими бедрами, – следствие многолетнего пребывания в седле, ведь он был объездчиком лошадей и приехал в Викторию из глуши Квинсленда.
– Все ради детей, – нередко повторял он. – Там, в глуши, школ-то нету. Честное слово, я сделал это ради детей, а иначе никогда бы оттуда не уехал.
У него было лицо типичного жителя австралийской глубинки, загорелое и обветренное; пронзительные голубые глаза поблескивали из сетки морщин, порожденных ослепительным солнцем солончаковых равнин.
Один его приятель, гуртовщик, как-то приехал проведать отца и, увидев, как тот идет по двору ему навстречу, воскликнул:
– Черт подери, Билл, да ты до сих пор вышагиваешь, как проклятый страус эму!
Походка отца была легкой и семенящей, и он всегда смотрел под ноги. Эту свою привычку он объяснял тем, что долгое время жил в «змеином краю».
Порой, немного выпив, он выезжал во двор на каком-нибудь не до конца объезженном норовистом жеребце, который под ним ходуном ходил, задевая кормушки, оглобли и старые поломанные колеса, разгоняя перепуганную домашнюю птицу, и во всю глотку вопил:
– Дикий скот без клейма! Пропади все пропадом! Эй, берегись!
Затем он осаживал коня и, резко сорвав с головы широкополую шляпу, размахивал ею, будто в ответ на аплодисменты, и отвешивал поклон в сторону двери в кухню, где обычно стояла мать, наблюдая за ним с едва заметной улыбкой – слегка насмешливой, любящей и немного тревожной.
Отец любил лошадей не потому, что этим зарабатывал на жизнь, а потому, что видел в них красоту. Ему доставляло удовольствие рассматривать хорошо сложенную лошадь. Он медленно обходил вокруг нее и, слегка наклонив голову, пристально разглядывал ее, проводя руками по передним ногам в поисках припухлостей или шрамов, говоривших о том, что ей приходилось падать.
– Лошадка должна быть с хорошими, крепкими костями, – говаривал он, – рослая и с длинным корпусом.
Он считал, что лошади во многом похожи на людей.
– Уж поверь мне, – говорил он. – Сколько раз я такое видел! К иным лошадям только хлыстом притронешься, как они сразу давай дуться. Совсем как дети… Дашь какому-нибудь проказнику затрещину, так он потом долго с тобой разговаривать не будет. Затаит обиду. Забыть не может, понимаешь? Вот и лошади, черт подери, такие же! Ударь такую кнутом, потом с ней хлопот не оберешься. Погляди на гнедую кобылу старика Коротышки Дика. Она тугоуздая. Но мне-то удалось с ней справиться. Вот видишь… Каков Коротышка, такова и лошадь. Кто пытался его обуздать, только себе навредил. Кстати, он мне до сих пор за ту работенку фунт должен. Ну да ладно… Что с него взять, ни гроша за душой.
Мой дед, рыжеволосый пастух из Йоркшира, прибыл в Австралию в начале сороковых годов прошлого века. Он женился на ирландской девушке, которая приехала в новую колонию в том же году. Говорят, дед вышел на пристань, когда причалил корабль с ирландскими девчонками, намеревавшимися устроиться в колонии прислугой.
– Кто из вас прямо сейчас пойдет за меня замуж? – крикнул он девушкам, толпившимся у поручней. – Кто готов попытать со мной счастья?
Одна крепкая, синеглазая ирландка с черными волосами и большими руками задумчиво поглядела на него и ответила:
– Я согласна. Пойду за тебя.
Она перелезла через поручни, и он подхватил ее на пристани, взял ее узелок с вещами, положил руку ей на плечо, и они вместе пошли прочь.
Отец был младшим из четверых детей и унаследовал ирландский темперамент своей матери.
– Когда я был мальчишкой, – как-то рассказал мне он, – я угодил одному погонщику по голове колючей дыней, а ведь это опасное растение – если сок попадет в глаза, можно и ослепнуть. Ну, парень, конечно, рассвирепел и погнался за мной с дубиной. Я бросился к нашей хижине с воплем: «Мама!» Парень был вне себя от злости, зуб даю! Возле хижины он меня едва не настиг, но мама все видела и поджидала нас у двери, держа в руках котелок с крутым кипятком. «Назад, – крикнула она. – У меня тут кипяток. Только посмей подойти ближе, и я выплесну его тебе прямо в лицо». Это его, черт подери, остановило. Я вцепился в ее юбку, а она спокойно стояла и смотрела на парня, пока тот не убрался восвояси.
В двенадцать лет отец уже сам зарабатывал себе на жизнь. Все его образование сводилось к нескольким месяцам обучения с учителем-пьянчугой, которому дети, посещавшие дощатую лачужку, служившую школой, платили полкроны в неделю.
Начав работать, отец переходил с фермы на ферму, объезжая лошадей или перегоняя гурты. Отрочество и раннюю молодость он провел в глуши Нового Южного Уэльса и Квинсленда, которые потом являлись неисчерпаемой темой всех его бесконечных историй. Именно благодаря его рассказам солончаковые равнины и красные песчаные дюны этих диких краев были мне ближе, чем зеленые леса и поля, среди которых я родился и рос.
– Знаешь, есть что-то особенное в этих глухих местах, – как-то сказал он мне. – Там чувствуешь какое-то ни с чем не сравнимое удовлетворение. Заберешься на поросшую сосняком гору, разведешь костер…
Он замолчал и окинул меня беспокойным взглядом. А потом сказал:
– Надо будет что-нибудь придумать, чтобы там, в глуши, твои костыли не увязали в песке. Да, когда-нибудь мы с тобой обязательно туда доберемся.
Глава вторая
Вскоре после того как меня парализовало, мышцы в ногах начали усыхать, а спина, прежде прямая и крепкая, искривилась. Подколенные сухожилия затвердели и так стянули мне ноги, что те согнулись в коленях, и их уже невозможно было разогнуть.
Болезненное напряжение сухожилий под каждым коленом и убеждение, что если ноги в скором времени не распрямить, то они навсегда останутся в таком положении, беспокоили мою мать, и она постоянно донимала доктора Кроуфорда просьбами назначить какое-нибудь лечение, которое позволило бы мне подняться и снова начать ходить.
Доктор Кроуфорд плохо разбирался в детском параличе. Неодобрительно нахмурившись, он наблюдал за попытками моей матери оживить мне ноги, растирая их бренди и оливковым маслом, – по совету жены школьного учителя, утверждавшей, что таким способом она избавилась от ревматизма, – однако, проронив что-то вроде «это не повредит», отложил вопрос лечения моих неподвижных ног до тех пор, пока не выяснит, какие осложнения возникали у жертв болезни в Мельбурне.
Доктор Кроуфорд жил в Балунге, небольшом городке в четырех милях от нашего дома, а пациентов в глубинке навещал только в неотложных случаях. Он разъезжал в коляске с приподнятым верхом, запряженной серой лошадкой, трусившей рысцой. Его фигура выгодно выделялась на фоне голубой войлочной обивки, когда он раскланивался перед прохожими, помахивая хлыстом. Коляска приравнивала его к богатым землевладельцам, правда, лишь к тем из них, чьи экипажи не имели резиновых шин.
Доктор был знатоком по части простых, хорошо известных болезней.
– Миссис Маршалл, я с уверенностью могу сказать, что у вашего сына не корь.
Однако о полиомиелите он почти ничего не знал. Когда я только заболел, он собрал консилиум, пригласив еще двух докторов, один из которых как раз и поставил мне диагноз – детский паралич.
На маму этот доктор произвел сильное впечатление, и она принялась расспрашивать его о моей болезни, но он лишь сказал:
– Будь это мой сын, я бы очень-очень беспокоился.
– Я в этом не сомневаюсь, – сухо ответила мама и с этой минуты утратила в него всякую веру.
Но доктору Кроуфорду она по-прежнему доверяла. Когда другие врачи ушли, он сказал:
– Миссис Маршалл, невозможно предсказать, останется ли ваш сын калекой и выживет ли он вообще. Я лично верю, что он будет жить, но все в руках Божьих.
Маму это заявление утешило, отец, однако, воспринял его иначе, заметив, что таким образом доктор Кроуфорд признал, что ничего не смыслит в детском параличе.
– Когда говорят, что все в руках Божьих, пиши пропало, – сказал он.
В конце концов доктору Кроуфорду все же пришлось решать проблему с моими скрюченными ногами. Взволнованный и неуверенный, он тихо постукивал пухлыми пальцами по мраморной крышке умывальника возле моей постели и молча глядел на меня. Мама в напряжении стояла рядом, затаив дыхание и не смея пошевелиться, словно узник, ожидающий оглашения приговора.
– Что ж, миссис Маршалл, что я могу сказать по поводу его ног… Ммм, да… Боюсь, есть лишь одно средство… К счастью, он храбрый мальчик. Ноги надо просто выпрямить. Это единственный способ. Их надо выпрямить силой. Вопрос в том, как это сделать. Думаю, лучше всего каждое утро класть его на стол, а затем всем своим весом прижимать его колени, пока они не распрямятся. Ноги должны быть плотно прижаты к столу. Скажем, раза три в день. Да, думаю, трех раз будет достаточно. Ну… в первый день можно дважды.
– Ему будет очень больно? – спросила мать.
– Боюсь, что да. – Доктор Кроуфорд помолчал и добавил: – Вам потребуется все ваше мужество.
Каждое утро, когда мать клала меня на спину на стол, я смотрел на картину над каминной полкой, изображавшую перепуганных лошадей. На этой гравюре черная и белая лошади в ужасе жались друг к другу, в то время как в нескольких футах от их раздутых ноздрей сверкали зигзаги молнии, вырывавшиеся из хаоса бури. На стене напротив висела вторая картина: на ней лошади в панике мчались прочь, гривы их развевались, а ноги были неестественно вытянуты, как у лошадок-качалок.
Отец, очень серьезно воспринимавший всякую живопись, порой смотрел на этих лошадей, прищурив один глаз, чтобы как следует, повнимательнее оценить их.
Как-то раз он сказал:
– Они арабские, это верно, но не чистокровные. А у кобылы к тому же нагнет2. Посмотри на ее бабки.
Мне не понравилось, что отец нашел у этих лошадей какие-то изъяны. Ведь они были для меня чем-то очень важным. Каждое утро я бежал вместе с ними от ужасной боли. Наши страхи сливались воедино, превращаясь в один общий страх, делавший нас товарищами по несчастью.
Мама упиралась обеими руками в мои согнутые колени, зажмурившись, чтобы не дать слезам пролиться из-под сжатых век, всем своим телом наваливалась на мои ноги и плотно прижимала их к столу. По мере того как они распрямлялись, пальцы у меня растопыривались, а затем, искривившись, загибались вниз, словно птичьи когти. Когда подколенные сухожилия натягивались, я начинал громко кричать от боли, широко раскрыв глаза и не отводя взгляда от охваченных ужасом лошадей над каминной полкой. В то время как мучительные судороги сводили мои пальцы, я кричал лошадям:
– О лошади, лошади, лошади!.. О лошади, лошади!..
Глава третья
Больница находилась в городке более чем в двадцати милях от нашего дома. Отец отвез меня туда на крепко сколоченной коляске с длинными оглоблями, с помощью которой он обычно приучал лошадей к упряжке. Он очень гордился этой коляской. Оглобли и колеса были сделаны из орехового дерева, а на спинке сиденья он нарисовал вставшую на дыбы лошадь. Рисунок был так себе, и отец, как правило, словно оправдываясь, объяснял это следующим образом: «Она еще не привыкла, понимаете? Первый раз на дыбы встает, потому и потеряла равновесие».
Отец запряг одну из молодых лошадей, которых объезжал, и привязал к оглобле вторую. Пока мама усаживала меня на пол коляски и забиралась сама, он держал коренника за голову. Устроившись, мама подняла меня и усадила рядом с собой. Отец продолжал разговаривать с лошадью, растирая рукой ее покрытую испариной шею.
– Тихо, милая! Эй, кому говорю! Стой смирно.
Маму не пугали выходки необъезженных лошадей. Упрямые лошади вставали на дыбы, падали на колени или норовили сойти с дороги, задыхаясь от отчаянных усилий сбросить упряжь, а мать сидела с невозмутимым видом на высоком сиденье, приспосабливаясь к любому толчку или крутому повороту. Одной рукой стискивая никелированный поручень, она слегка наклонялась вперед, когда лошади резко пятились, или с силой откидывалась на спинку сиденья, когда они рвались вперед, но всегда крепко держала меня.
– Все хорошо, – прижав меня к себе, говорила мама.
Отец отпустил удила, отошел к подножке и пропустил вожжи через кулак, не сводя глаз с головы пристяжной. Одну ногу он поставил на круглую железную ступеньку, ухватился за край сиденья, на мгновение замер, успокаивая встревоженных лошадей – «Стойте смирно!», – а потом вдруг вскочил на сиденье, как раз когда лошади поднялись на дыбы. Он ослабил поводья, и кони бросились вперед. Жеребчик, привязанный к оглобле недоуздком, тащил в сторону, вытянув шею, и неуклюже скакал рядом с лошадью в упряжи. Мы выскочили за ворота с такой скоростью, что из-под скрипучих, буксовавших, окованных железом колес во все стороны полетели мелкие камешки.
Отец похвалялся, что при всех своих стремительных выездах ни разу не задел ворот, хотя отметины на дереве на уровне ступиц явно говорили об обратном. Перегнувшись через крыло, чтобы посмотреть, велико ли расстояние между ступицей колеса и столбом ворот, мать как раз говорила:
– В один прекрасный день ты все-таки врежешься в столб.
Лошади пошли ровнее, когда мы свернули с грунтовой дороги, ведущей к нашим воротам, на вымощенное щебнем шоссе.
– А ну-ка, потише! – прикрикнул отец и добавил, обращаясь к маме: – Эта поездка поубавит им прыти. Серый – от Аббата. У того все потомство такое, с норовом.
Теплые лучи солнца и стук колес по щебню убаюкали меня. Мимо нас проносились заросли кустарничков, пастбища и ручьи, прикрытые завесой пыли, летевшей из-под копыт наших лошадей, но я ничего этого не видел. Положив голову на руку матери, я спал до тех пор, пока спустя три часа она не разбудила меня.
Под колесами нашей коляски скрипел гравий больничного двора. Я сел, разглядывая белое здание с узкими окнами, от которого исходил странный запах.
Сквозь проем открытой двери я увидел темный полированный пол и тумбочку, на которой стояла ваза с цветами. Но здание окутывала странная тишина, и она испугала меня.
В комнате, куда принес меня отец, у стены стояла мягкая кушетка и письменный стол в углу. За столом сидела медсестра, которая задавала отцу множество вопросов и записывала его ответы в тетрадь, а он тем временем смотрел на нее так, как смотрел бы на прижавшую уши хитрую лошадь.
Когда она вышла, забрав с собой тетрадь, отец сказал матери:
– Всякий раз, как оказываюсь в таком месте, хочется послать всех к чертям собачьим. Тут задают слишком много вопросов, прямо душу выворачивают наизнанку, словно шкуру с коровы сдирают. И начинаешь чувствовать себя так, будто тебе здесь не место, будто пытаешься обвести их вокруг пальца. Ну, даже не знаю, как это объяснить…
Вскоре вернулась сестра и привела санитара, который вынес меня из комнаты после того, как мать пообещала зайти ко мне, когда я буду уже в постели.
Санитар был одет в коричневый халат. У него было красное, морщинистое лицо, и он смотрел на меня так, словно я не ребенок, а какая-нибудь трудноразрешимая задачка. Он принес меня в ванную комнату и опустил в ванну с теплой водой. Затем сел на табурет и начал сворачивать цигарку. Раскурив ее, он спросил:
– Когда ты в последний раз мылся?
– Сегодня утром, – ответил я.
– Ну хорошо, тогда просто полежи в ванне. Сойдет и так.
Потом я сидел в прохладной, чистой постели, куда он меня положил, и умолял маму не уходить. На кровати лежал жесткий, неподатливый матрас, и я никак не мог подтянуть к себе одеяло. Под этим одеялом не будет ни теплых пещер, ни каналов, извивающихся вдоль изгибов стеганого покрывала, по которым можно перегонять камешки. Не было привычных защищающих меня стен, и я не слышал лая собаки или хруста соломы в зубах лошади. Все это были звуки родного дома, и сейчас мне до боли хотелось их услышать.
Отец уже попрощался со мной, но мать все медлила. Внезапно она быстро поцеловала меня и ушла, и то, что она могла так поступить, показалось мне невероятным. Я не мог даже подумать, что она оставила меня по своей воле; скорее, тому виной были какие-то внезапные, ужасные обстоятельства, над которыми она не властна. Я не окликнул ее, не стал умолять вернуться, хотя мне этого отчаянно хотелось. Не в силах задержать ее, я смотрел ей вслед.
После ухода матери человек на соседней койке некоторое время молча наблюдал за мной, а потом спросил:
– Почему ты плачешь?
– Я хочу домой.
– Все мы этого хотим, – сказал он, устремил глаза в потолок и со вздохом повторил: – Да, все мы этого хотим.
В проходах между койками и в центре нашей палаты полированный пол выглядел светло-коричневым, но под койками, там, где не ступала нога медсестры, вощеные половицы были темными и блестящими.
Вдоль стен, друг против друга, в два ряда стояли белые железные кровати на колесиках. На несколько дюймов вокруг пол был исчерчен царапинами и вмятинами, потому что колесики беспокойно вертелись, когда сестры двигали кровати.
Туго натянутые, заправленные под матрасы одеяла и простыни напоминали своеобразный кокон, свитый вокруг каждого больного.
В палате лежало четырнадцать человек. Я был единственным ребенком. После ухода мамы некоторые из них постарались меня утешить.
– Не переживай, все будет хорошо, – сказал один из этих людей. – Мы о тебе позаботимся.
Меня спросили, чем я болен, и когда я рассказал, все пустились в рассуждения по поводу детского паралича, а один человек назвал его настоящим убийством.
– Да-да, убийство, – повторил он. – Так и есть. Просто убийство.
Услышав его слова, я тотчас почувствовал себя важной персоной, и мне понравился сказавший их человек. Сам я не считал свою болезнь серьезной и относился к ней, как к временному неудобству; в последующие дни обострение боли вызывало у меня обиду и злость, которые переходили в отчаяние, когда боль не отступала, но стоило ей утихнуть, как я тут же о ней забывал. Долго находиться в подавленном состоянии я не мог – слишком много интересного происходило вокруг меня.
То, как мое заболевание действовало на людей, со скорбным видом собиравшихся возле моей постели и считавших его ужасной трагедией, всегда меня приятно удивляло. Это придавало мне особую значимость и поддерживало в хорошем настроении.
– Ты храбрый мальчик, – говорили они, наклонялись и целовали меня, а затем отворачивались со скорбным видом.
Храбрость, которую приписывали мне эти люди, озадачивала меня. Мне казалось, что назвать человека храбрым – все равно что наградить его медалью. Услышав очередную похвалу по поводу моей храбрости, я всегда старался придать своему лицу суровое выражение, поскольку полагал, что моя обычная веселая физиономия как-то не увязывается с ролью храбреца.
Но я всегда боялся, что меня разоблачат, и комплименты моей храбрости – на мой взгляд, незаслуженные, – смущали меня. Ведь на самом деле я пугался даже шороха мыши под кроватью, а дома, когда ночью хотелось пить, боялся встать с постели и в темноте подойти к баку с водой. Иногда я задумывался: что бы сказали люди, узнай они об этом?
Но люди утверждали, что я храбрец, и я тайно гордился этой лестной характеристикой, к которой, однако, примешивалось некое чувство вины.
Через несколько дней я уже обжился в больнице, сроднился с соседями по палате и даже начал ощущать некоторое превосходство по отношению к новичкам, которые робко заходили в палату, испытывая смущение от устремленных на них взглядов и мечтая только о том, чтобы скорее оказаться в своей постели.
Соседи беседовали со мной, посмеивались надо мной, опекали меня, как взрослые опекают ребенка, и, как только иссякали темы для разговоров, тут же обращались ко мне. Я верил всему, что мне говорили, и моя наивная доверчивость их забавляла. Они взирали на меня с высоты своего многолетнего жизненного опыта, полагая, что раз я такой простодушный, то не понимаю, когда речь идет обо мне. Они говорили обо мне так, словно я глухой и не могу слышать их слов.
– Что ему ни скажи, он всему верит, – объяснял юнец на другой стороне палаты новичку. – Вот послушай. Эй, весельчак, – обратился он ко мне, – в колодце возле твоего дома живет ведьма, правда?
– Да, – сказал я.
– Вот видишь, – воскликнул юнец. – Забавный мальчишка. Говорят, он никогда не будет ходить.
Я подумал, что этот парень – просто дурак. Меня изумляло, что всем им кажется, будто я никогда не смогу ходить. Ведь я точно знал, что ждет меня в жизни. Я буду объезжать диких лошадей и кричать «Эй! Эй!» и размахивать шляпой, а еще я напишу книгу, вроде «Кораллового острова».
Мне нравился человек на соседней койке.
– Будем друзьями, – сказал он мне вскоре после того, как я оказался в больнице. – Хочешь быть моим товарищем?
– Хочу, – ответил я.
Однако в одной из моих первых детских книжек была цветная картинка, изображавшая друзей: они должны стоять рядом, держась за руки. Я объяснил это человеку с соседней койки, но он сказал, что это необязательно.
Каждое утро он приподнимался, опираясь на локоть, и говорил мне, подчеркивая каждое слово шлепком рукой по одеялу:
– Запомни: лучшие на свете мельницы – это мельницы братьев Макдональдов.
Меня обрадовало то, что теперь я знаю, какие из мельниц лучшие. По правде говоря, это утверждение настолько укоренилось в моем сознании, что с тех пор всегда влияло на мое отношение к мельницам.
– Их строят мистер Макдональд с братом? – спросил я.
– Да, – сказал он. – Я старший из Макдональдов. Я Ангус. – Вдруг он рухнул обратно на подушку и раздраженно буркнул: – Бог знает, как они там без меня… с заказами и прочим. За всем надо присматривать. – Тут он обратился к одному из больных: – Что пишут в газете про сегодняшнюю погоду? Будет засуха или нет?
– Газету еще не принесли, – ответил тот.
Из двенадцати обитателей нашей палаты Ангус был самым высоким и крупным. Когда его донимали боли, он то и дело громко вздыхал, сквернословил или натужно стонал, пугая меня.
Утром после бессонной ночи он говорил как бы в пустоту:
– Ох, ну и намучился же я прошлой ночью!
У него было широкое, чисто выбритое лицо с глубокими складками от ноздрей до уголков рта, гладкое, словно выделанная кожа. Когда боль стихала, его подвижный, чуткий рот легко расплывался в улыбке.
Он часто поворачивал голову на подушке и молча, не отрываясь, смотрел на меня.
– Почему ты так долго молишься? – как-то спросил он и пояснил в ответ на мой полный изумления взгляд: – Я наблюдал за тем, как двигаются твои губы.
– У меня очень много просьб, – объяснил я.
– И о чем же ты просишь? – спросил он и, видя мое смущение, добавил: – Ну же, расскажи мне. Мы ведь с тобой друзья.
Я повторил вслух свою молитву, а он слушал, уставившись в потолок и скрестив руки на груди. Когда я закончил, он повернул голову и посмотрел на меня.
– Ты ничего не упустил. Задал Ему работенку. Выслушав все это, Господь составит о тебе неплохое мнение.
Его замечание обрадовало меня, и я решил, что попрошу Господа, чтобы Он и Ангуса исцелил.
Страстная молитва, которую я повторял каждый вечер перед сном, была такой долгой, потому что число просьб, с которыми я обращался к Богу, постоянно возрастало. С каждым днем их становилось все больше, а поскольку я переставал просить только о том, что уже получил, число новых просьб намного превышало число исполненных, и я со страхом приступал к повторению молитвы. Мать никогда не позволяла мне пропускать воскресную школу, и от нее же я узнал свою первую молитву в стихах, начинавшуюся словами «Добрый, кроткий Иисусе», а заканчивавшуюся просьбой благословить всяких разных людей, в том числе отца, хотя в глубине души я всегда чувствовал, что он не нуждается ни в каком благословении. Но однажды я увидел выброшенную кем-то вполне хорошую, на мой взгляд, кошку и испугался ее окоченевшей неподвижности; мне объяснили, что она мертвая. С тех пор, лежа по ночам в постели, я представлял себе мать и отца с таким же оскалом, как у той кошки, и отчаянно молился, чтобы они не умерли раньше меня. Это была самая искренняя моя молитва, которую я никогда не забывал прочесть.
Поразмыслив, я решил включить в молитву свою собаку Мег. Я просил сохранить ей жизнь до тех пор, пока не стану достаточно взрослым, чтобы пережить ее смерть. Опасаясь, что требую от Господа слишком многого, я добавил, что, как и в случае с Мег, буду доволен, если мои родители доживут, скажем, до моих тридцати лет. Я считал, что в столь преклонном возрасте оставлю слезы в прошлом. Мужчины никогда не плачут.