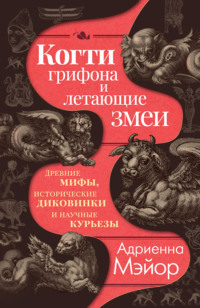Buch lesen: "Когти грифона и летающие змеи. Древние мифы, исторические диковинки и научные курьезы"
Adrienne Mayor
FLYING SNAKES AND GRIFFIN CLAWS
And Other Classical Myths, Historical Oddities, and Scientific Curiosities
© Adrienne Mayor, 2022
© Степанова В. В., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
КоЛибри®
* * *
Посвящается Сэмюэлю Мэйору Энджелу
Удиви меня!
Сергей Дягилев – Жану Кокто, 1912 г.
Введение. На пересечении мифа, истории и науки
На извилистом пути к званию специалиста по античному фольклору и истории древней науки меня всегда манили укромные уголки и пыльные закоулки истории, литературы и искусства. Диковинки, загадки, странности, причудливые «вырезанные эпизоды» заставляют мое сердце биться чаще. В античных мифах мне интереснее всего те места, где речь идет о сатирах, великанах, русалках, колдуньях, нимфах, морских чудовищах и амазонках. Меня пленяют рассказы о странных животных и миражах, занимательные и забавные истории, загадки и парадоксальные детали. Я обожаю копаться в фольклоре, мифах, легендах и старинных исторических документах, отыскивая следы приукрашенных воображением подлинных фактов, особенно из области естествознания. Всякий раз, когда мое внимание привлекает нечто необыкновенное или не упомянутое в других древних произведениях, я немедленно начинаю искать поясняющие сноски и комментарии. Если их нет или они неполные, я отмечаю это место и, как всякий детектив, расследующий нераскрытое старинное дело, завожу для него отдельную папку. Мои потрепанные зеленые и красные тома греческих и латинских текстов в лёбовском издании1 исписаны примечаниями и ощетиниваются стикерами с пометками. А мои папки – это буйные заросли случайных сведений, которые в один прекрасный день, может быть, принесут плоды в виде выявленных закономерностей – а может быть, и нет.
Такая работа часто напоминает одинокие скитания по тенистым местам, окутанным туманом, по тропам, где полно развилок и тупиковых ответвлений. Иногда здесь можно увидеть следы ног предыдущих исследователей, а иногда нет ни следов, ни огней, ни путевых указателей. Время от времени мозаика выгоревших пятен озаряется внезапным лучом солнечного света – и понимания. Такого рода пограничные территории лучше всего описывает средневековое слово «марка» (march), обозначающее окраину, границу, опушку леса и одновременно отпечаток, след. Марка – это граница или перекресток между областями, пустынная и малонаселенная пограничная зона вдали от официально признанного центра. На этих промежуточных землях действуют другие правила – а может быть, никаких правил и вовсе нет. В пограничной зоне на стыке мифа, науки и истории можно свободно исследовать, создавать опорные пункты, составлять собственные карты. Каждое из 50 эссе в этой подборке появилось в свое особое время и в особом месте. В каком-то смысле это вехи, по которым можно проследить траекторию моих размышлений о пересечениях древнего и современного фольклора, природы, истории и науки. Повторяющиеся темы, люди и места соединены перекрестными ссылками. Некоторые главы в книге совершенно новые, другие появились из коротких, длиной в один абзац, заметок для великолепного сайта Wonders and Marvels, посвященного истории науки и активно обновлявшегося до 2017 года. Отдельные главы посвящены заинтересовавшим меня темам, которых я лишь коротко коснулась в своих предыдущих книгах и решила глубже исследовать здесь. Есть также существенно переработанные, дополненные и обновленные версии статей, выходивших в различных периодических изданиях, в том числе Military History Quarterly, Archaeology, Sea Frontiers, London Review of Books и Sports Afield. С учетом того, что в этой книге собраны работы разных периодов, публиковавшиеся в течение почти трех десятков лет и предназначенные для изданий самой разной направленности, неудивительно, что круг ее тем можно назвать эклектичным и даже эксцентричным. Например, я догадываюсь, что глава 30, посвященная извечной связи бокалов для вина с женской грудью в высокой и низкой культуре и первоначально опубликованная под названием «Упоительные сосуды», может вызвать у читателей вполне оправданное возмущение. Вместе с тем она наглядно свидетельствует о том, что некоторые широко распространенные в древности взгляды и представления продолжали существовать и в конце ХХ века, – а также о том, насколько изменилась ситуация после 1994 года.
Как раз в этом году я узнала от моего друга, художника-татуировщика Phoenix & Arabeth, что копии моей статьи о грифонах из журнала Archeology лежат во всех тату-салонах от Ванкувера до Сан-Диего, а изображения зверей в скифском стиле вызывают у ценителей татуировок самый живой интерес. Татуировки тогда начали входить в моду, но еще не успели стать повсеместным явлением, и мне пришлось немало потрудиться, чтобы убедить Питера Янга, консервативного главного редактора Archeology, что тема татуировок в Античности вполне подходит для журнальной публикации. Мы подружились в 1994 году после того, как он взял в печать мои заметки о грифонах и несколько других статей. В 1999 году Питер наконец согласился опубликовать мою статью о татуировках под названием «Люди в картинках» (глава 44). Но вместо того, чтобы проиллюстрировать ее подготовленной мною подборкой прекрасных варварских татуировок, любовно и в подробностях изображенных на древнегреческих вазах, редакторы сопроводили статью невзрачными и неумелыми набросками современного художника. Я редко затаиваю обиды, но так и не простила Archeology необъяснимого отказа проиллюстрировать текст изображениями подлинных древних татуировок и больше не отправила в этот журнал ни одной статьи. В 2011 году Питер оставил свой пост. Главным редактором стал Джарет Лобел, работавший в Archeology с 1999 года. В 2013 году справедливость наконец восторжествовала: в Archeology вышла статья «Древние татуировки», написанная Джаретом Лобелом в соавторстве с заместителем редактора Эриком Пауэлом и щедро проиллюстрированная цветными фотографиями с примерами древних татуировок на греческих вазах и других артефактах.
Некоторые главы в книге имеют довольно личный характер – как, например, мое теперь уже кажущееся довольно неловким воображаемое письмо к известному палеонтологу (глава 14). Смешанные эмоции вызывают и воспоминания о том, как мы держали хорьков (см. главу 12): о чем только мы думали, когда навязывали соседство этих животных добрым жителям Принстона? Глава 40 «Вся правда о Древнем Карфагене» представляет собой ностальгическое возвращение к скандальному роману Гюстава Флобера «Саламбо» (1862). Перелистывая сейчас этот роман, я с изумлением осознала, что сенсационные видения Флобера, впервые прочитанные мною в 14 лет, и познакомили меня с древней историей. Пожалуй, это многое объясняет.
Некоторые главы пробуждают чудесные воспоминания. Собирая для журнала The Athenian материалы о поездках богатых образованных путешественников XVIII века в Грецию, я обнаружила, что могу отчасти прикоснуться к их опыту. В 1980-х годах мы с моим компаньоном Джошем (историк и политолог Джозайя Обер, ныне мой муж) путешествовали пешком по остаткам древних дорог, ведущих к монументальным каменным крепостям, которые были построены после Пелопоннесской войны. (Джош писал о ней диссертацию.) Мы ночевали под звездами на палубах паромов и в разрушенных башнях без крыш в окружении неподвластных времени греческих пейзажей. Однажды летом, пройдя много миль по опаленной сухим жаром извилистой горной дороге, в сумерках мы наконец добрались до уединенных грозных руин крепости Панактон. Последнюю часть пути нам помогла одолеть семья цыган. Мы ехали в кузове их грузовика вместе с собаками, чьи ошейники были щедро украшены золотом и серебром. С наступлением ночи цыганская семья высадила нас у подножия скалы в дикой глухомани, покачивая головами над причудами иностранцев.
Мы взобрались по каменистому склону и с восторгом оглядели нависающие стены из огромных известняковых плит, которые предстояло измерить и зарисовать следующим утром. Ужин был вполне спартанским: один помидор, луковица, выпавшая из проезжавшего мимо фермерского грузовика, и горсть миндаля, собранного у дороги и расколотого с помощью камня. Сметя в сторону сухой козий навоз, мы устроились на ночлег на плоской скальной плите. Незадолго до рассвета нас разбудила симфония из перезвона колокольчиков и звучного пускания ветров: на нас набрело стадо коз. Я никогда не забуду, как открыла глаза и увидела темные силуэты любопытных коз и их озадаченного пастуха, стоявшего над нами. Потом мы наблюдали великолепный восход солнца над заливом Сароникос далеко внизу, и Джош с пастухом раскуривали одну трубку на двоих.
В другой раз мы ночевали в одной из башен древней крепости в Мессене на юге Греции. В небе стояла полная луна, а в бойнице над нами сидела сова Афины2. На следующее утро воздух был полон жужжания пчел, кувыркавшихся над полем анемонов и цикламенов. Когда мы поднялись, проходивший мимо пастух предложил нам свежего молока из своего бидона. Удивительно осознавать, что точно такие же маленькие приключения могли происходить с теми, кто отправлялся в большое путешествие по Греции во времена Османской империи.
В 1979–1980 годах я жила в Афинах, а в течение следующих десяти лет приезжала туда на лето, чтобы помочь Джошу с топографическими съемками древних дорог и башен. В это время я провела немало счастливых часов за чтением и зарисовками в библиотеке Американской школы классических исследований. Меня очаровывали описания огромных костей странной формы, которые древние авторы приписывали великанам или чудовищам. Мне пришло в голову, что в этих текстах, возможно, зафиксированы открытия окаменелых останков крупных позвоночных, если таковые существовали в Греции. От уважаемого археолога Юджина Вандерпула я узнала, что в XIX веке недалеко от Афин в Пикерми проходили палеонтологические раскопки. Вандерпул доброжелательно предположил, что мои интуитивные догадки заслуживают дальнейшей проработки, поэтому я начала глубже изучать вопрос, пытаясь понять, могли ли замеченные древними греками и римлянами останки вымерших видов сыграть какую-то роль в их представлениях о некоторых сказочных существах. То, что я обнаружила, заставило меня снова и снова обращаться к специалистам по Античности и археологам, пытаясь убедить их, что это стоящая гипотеза и кто-то должен заняться ее изучением. В конце концов я поняла, что собирать разрозненные свидетельства древней литературы и искусства и сопоставлять их с данными истории, археологии и палеонтологии в попытке убедительно обосновать связь между античными сообщениями и окаменелостями придется именно мне. Исследование продвигалось медленно, то застревая в библиотечных дебрях, то замирая в ожидании ответа на письма, отпечатанные на машинке и отправленные по почте (все это происходило задолго до появления интернета и электронной почты).
Тем временем я продолжала зарабатывать на жизнь ремеслом внештатного редактора. Сначала я занималась медицинскими учебниками, но затем переключилась на редактуру литературоведческих, научных и исторических рукописей для десятка профессиональных и университетских издательств. До публикации первой книги в 2000 году я считала себя не столько писательницей, сколько художницей. Мои гравюры на мифологические сюжеты продавались в галереях Вашингтона, округ Колумбия, Итаки (Нью-Йорк) и Бозмана (Монтана). В этой антологии представлены некоторые мои оригинальные иллюстрации к статьям для англоязычного греческого журнала The Athenian.
Моей первой публикацией в The Athenian стала вышедшая в октябре 1983 года статья «Колоссальные окаменелости» (здесь 13-я глава). Я отпечатала текст на старой механической пишущей машинке Corona в Американской школе классических исследований и нарисовала иллюстрации тончайшим рапидографом Rotring, который использовала для картографических работ и археологических зарисовок крепостей, керамики и монет. Во второй части «Колоссальных окаменелостей», опубликованной в The Athenian в феврале 1984 года, я приводила сообщения древнегреческих источников о находках гигантских костей в окрестностях Эгейского моря. Эти иллюстрированные статьи подвели промежуточный итог моего погружения в тему «палеокриптозоологии» – так я сама изначально называла свои попытки идентифицировать неизвестных существ, встречавшихся в древнегреческой литературе и искусстве. В дальнейшем я продолжила изучать найденные древними греками и римлянами окаменелости и попытки их интерпретации – предварительные публикации на эту тему есть, в частности, в журналах Cryptozoology (1989, 1991), Folklore (1993), Archeology (1994) и Oxford Journal of Archeology (2000). Плодом этой работы стала 1-я глава моей книги «Первые охотники за ископаемыми» (The First Fossil Hunters: Dinosaurs, Mammoths, and Myth in Greek and Roman Times, 2000).
Меня особенно занимали грифоны – древние криптиды, неизвестные науке существа с четырьмя лапами и клювом. Каждое лето в библиотеке Американской школы классических исследований я просматривала множество древних изображений четвероногих животных с птичьими головами из Египта, Месопотамии, Греции, Скифии и с Крита. Однако письменные сообщения о грифонах встречались только в греческих и латинских текстах, начиная с фрагментов утраченного эпоса Аристея (VII в. до н. э.) и заканчивая произведениями римского историка и натуралиста Элиана (III в.)3. По времени с текстами совпадало множество произведений искусства, изображавших грифонов именно так, как их описывали древние авторы. При этом грифоны не упоминались ни в одном известном греческом мифе – их, очевидно, считали реальными животными, обитавшими в восточных землях. Что же стояло за десятью веками систематических описаний и художественных изображений? Я могла вспомнить только одно ныне существующее четвероногое животное с клювом – черепаху. Но вместе с тем мне пришло в голову, что четыре ноги и клюв также были у некоторых вымерших динозавров.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.